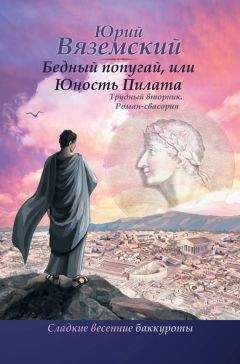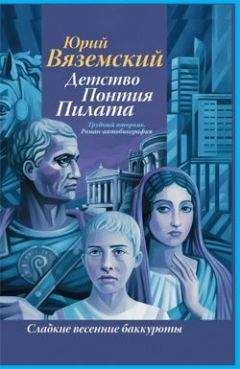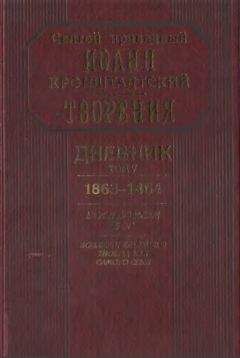Валерия попыталась заступиться за несчастного учителя. Но Кальпурния проявила решительность и Голубка от дома безжалостно отлучила.
Четвертый заброс тогда начался. Стоило Валерии выйти из дома, как перед ней возникала бледная тень Голубка — всегда безмолвная, всегда в отдалении, но неотступная, скорбная, горькая…
То впереди забеги, то ступай по пятам неотступно,
То приотстань, то опять скорого шагу прибавь;
Время от времени будь на другой стороне колоннады,
Чтоб оказаться потом с нею бок о бок опять…
Так он потом напишет в своей «Науке». Но тогда он, боже упаси, не «забегал», а словно летал по воздуху, будто бесплотная тень возникая то тут, то там, как в гомеровском Аиде. Когда же Валерии удавалось к нему приблизиться, на бледном лице этой тени часто блестели слезы.
Польза есть и в слезах: слеза и алмазы растопит.
Только сумей показать, как увлажнилась щека!
— спустя много лет напишет Пелигн.
Всё было точно рассчитано. Валерия была добродетельной женщиной. А добродетель, среди прочего, включает в себя сострадание и милосердие. И вот Кальпурния велела Голубку: «Сделай так, чтобы она пожалела тебя. Пусть милосердие начнет теснить целомудрие. Пусть явится материнское чувство к тебе, страдающему ребенку. Мы ее за это чувство подцепим и медленно, осторожно, незаметно для нее начнем подтягивать к другим нужным для нас чувствам».
Ветку нагни, и нагнется она, если гнуть терпеливо;
Если же с силой нажать, то переломится сук.
Будь терпелив, по теченью плыви через всякую реку,
Ибо пустой это труд — против течения плыть…
— позже напишет Пелигн.
Так хитро и умело «плыли по течению», что во время одной из прогулок Валерия пригласила Голубка к себе домой. А когда он явился, первым делом познакомила со своим мужем, сенатором Публием Вибуллием. Тот на досуге пописывал стишки и, как многие никудышные поэты, обожал их читать своим друзьям, подолгу, оду за одой. Друзья, понятное дело, увиливали или откровенно скучали во время таких декламаций. Голубок же, бледный и скорбный, едва услышав первые строфы Вибуллиева эпоса, просиял от восторга, весь обратился в слух, впился глазами, просил продолжать… Отныне он чуть ли не каждый день бывал в доме у Валерии. И, когда слушал вирши сенатора, радовался и блаженствовал, а когда случалось ему встречаться глазами с Валерией, бледнел и страдал.
Валерия решила прервать его страдания и наедине объясниться. Она и не подозревала, что здесь ее подстерегает пятый заброс. Голубок в ответ на ее поистине материнские наставления: о том, дескать, что они уже давно друзья и всегда будут друзьями, что дети ее почти ровесники Голубку, что ее нежно любимый муж к Голубку привязался, ну и так далее, — Голубок наш вдруг рухнул к ее ногам и стал целовать ей сандалии… Сцена была весьма похожа на ту, что когда-то Мотылек разыграл с Кальпурнией… Помнишь? (см. 5, XI)…
«Что ты делаешь?! Встань сейчас же!» — испугалась Валерия.
Голубок с колен не поднялся, а принялся целовать нижние складки ее туники.
«Немедленно прекрати!» — уже рассердилась добродетельная Валерия.
А Голубок схватил ее руки и жаркими поцелуями принялся покрывать пальчик за пальчиком.
«Ты с ума сошел! Я сейчас слуг позову! Я тебя выгоню!» — гневно воскликнула целомудренная женщина.
Голубок вскочил на ноги и отшатнулся в сторону, словно его ошпарили кипятком. Затем посмотрел на Валерию… как он мне потом говорил, тем взглядом, которым Юлий Цезарь должен был смотреть на убивающего его Брута; он этот взгляд долго репетировал перед зеркалом… Пронзив ее эдаким взглядом, Голубок выбежал из комнаты, ни одного слова не произнеся, чтобы в ушах у Валерии остались лишь звуки поцелуев и ее собственный гневный крик: «Я тебя выгоню! Выгоню! Выгоню!»
С тех пор Голубок ни разу не появился в доме у Валерии, ни разу не встретился ей в городе.
Ибо шестой заброс начался. Голубок исчез. Валерия сначала сердилась на него. Потом стала высматривать его во время прогулок, поначалу сама не догадываясь, что высматривает. Затем муж Валерии стал требовать, чтобы позвали Голубка, так как он, Публий Вибуллий, только что закончил новую песню своей эпической поэмы о древних римских царях.
Послали за Голубком. Но слуга вернулся с сообщением, что Голубок болен.
Валерия встревожилась и отправила расторопную рабыню, чтобы та выведала причины недомогания. Рабыня вернулась и сообщила: «Он уже давно ничего не ест. Пьет только воду».
Валерия испугалась и через ту же рабыню велела передать Голубку, чтобы он срочно ее, Валерию, навестил. В ответ было объявлено, что Голубок так ослаб, что уже не может выйти из дома.
Муж Валерии, который давно знал от своей жены о злосчастной влюбленности Голубка, Публий Вибуллий призвал к себе супругу и строго велел: «Сделай что-нибудь! Не губи юношу!»
«А что я могу сделать?» — тихо спросила Валерия.
«Не знаю. Доктора для него найди. Сама к нему сходи и уговори прекратить голодовку».
«Как?» — прошептала Валерия.
«Не знаю. Сумела обидеть, сумей и утешить», — сурово ответил сенатор.
Валерия идти к Голубку не посмела.
И тут состоялся седьмой и последний заброс. Из дома Мессалы прибежал посыльный и тайно сообщил Валерии, что Голубок теперь не только не ест, но и не пьет.
Этого сострадательная и во всем только себя винившая Валерия уже не могла вынести. Она пешая, без слуг, без накидки устремилась на Эсквилин, ворвалась в дом Голубка и стала упрашивать, умолять, пав на колени, ради всемилостивых богов, ради нее, Валерии, выпить хотя бы немного разбавленного вина.
«Поздно. Дух мой уже отлетает», — пролепетал ей в ответ умирающий Голубок.
«Нет! Не поздно! Я тебя верну к жизни! Я тебя спасу!» — в отчаянии прошептала Валерия и принялась целовать Голубка в лоб, в щеки, в губы.
После первого долгого поцелуя Голубок попросил глоточек вина. Однако, испив его, стал задыхаться, глаза у него закатились. Валерия схватила его голову, прижала к своей груди, расстегнула брошку, чтобы не исцарапать ему лицо, развязала пояс, который, уж не знаю, чем ей тогда помешал…
Стоит ли перечислять?.. Уснули усталые вместе… — Этой строкой из элегий Пелигна и наш рассказ можно было бы закончить.
Однако добавлю: Голубок лишь однажды обладал Валерией. А после стал пить и есть, некоторое время посещал дом сенатора, слушал его стихи, а супругу его, Валерию, лишь одаривал кроткими улыбками и ласковыми, понимающими взглядами. Она же места себе не находила, когда он приходил к ним в дом, пыталась с ним уединиться, упрашивала Кальпурнию, чтобы та устроила им тайную встречу наедине.
Кальпурния вызвала к себе Голубка и стала отчитывать:
«Так не поступают с добродетельными женщинами. Когда они вдруг теряют добродетель, то, болезненно переживая свое падение, начинают страстно желать падать всё дальше, всё глубже… Тебе что, трудно проявить ответное милосердие? Если несколько раз в месяц — чаще не нужно — ты будешь согревать на груди эту пойманную нами рыбку… Как будто с тебя убудет!»
«Убудет, милая Корнелия, — ласково отвечал Голубок. — Меня от нее трижды тошнит».
«Тошнит? — удивилась Корнелия. — И почему трижды?»
«Во-первых, от голода, который я из-за нее перенес, и тех зелий, которые я глотал для своей бледности. Во-вторых, от стихов ее мужа. А в-третьих, от этих ее „мальчик мой“, „сокровище мое“, „песик“, „мышонок“, „птенчик“, которые она мне и тогда шептала, и сейчас дышит в ухо, когда схватит за руку и оттащит в сторону… Скажи спасибо, что я еще хожу к ним в дом. Скоро терпение мое лопнет, и ходить перестану».
Сказав это, Голубок лучисто улыбнулся. Кальпурния же глянула на него тяжелым прищуренным взглядом и заметила:
«А ты, я смотрю, жестокий…»
Голубок дернул плечами и слегка потряс головой — мы называли это «перышки отряхнул» — и нежно спросил:
«А ты будто не жестокая?»
«Женщины жестоки от природы, — ответила Кальпурния. — Я думала, что мужчины добрее. Ты — по крайней мере».
«Женщина не имеет права быть недоступной. Это — грубое нарушение законов Венеры», — сказал Голубок.
…Стало быть, объяснились и подвели итог.
Вардий встал, по палубной платформе прогулялся до матроса, который на корме ловил рыбу, вернулся назад, снова уселся напротив меня и продолжал:
IX. — Второй женщиной из недоступных была Лициния. Ее через год после Валерии предложил Юл Антоний. Он недавно сам пытался ее соблазнить, но потерпел поражение. Его угрюмая красота, бесцеремонная дерзкая сила, перед которыми словно сами собой распахивались женские объятия, нет, не подействовали. «Я так рассердился, что хотел изнасиловать эту сучку, — признался Антоний. — Но как представил себе претора, суд, адвокатов… Не люблю я этой мышиной возни… Попробуй. Говорят, ты на ложе почище Приапа… Но с ней ты до ложа не доберешься».