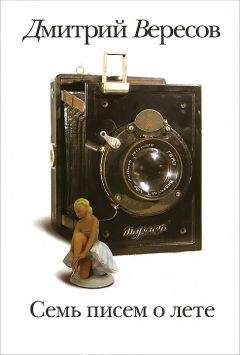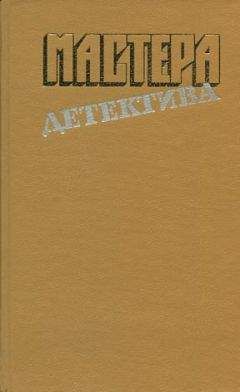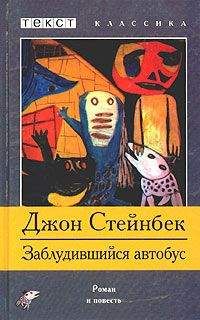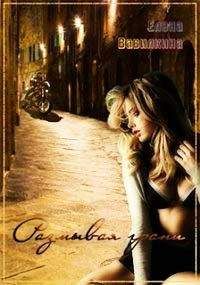Твою маму, Настька, я видел только один раз с тех пор, как ты уехала. Она выглядит очень усталой. Она все время в больнице, там дел много, все переоборудуют, переставляют, добывают дополнительные койки – готовятся принимать раненых. И я просил передать тебе привет, если она узнает адрес и будет тебе писать или если оказия вдруг подвернется. Теперь все стараются с оказией письма отправлять, так быстрее и, наверное, надежнее. Тетя Надя в ответ только положила мне руку на плечо и прикрыла глаза, обещая. Только ведь мы не знаем, где ты. Я несколько раз заходил в твою балетную студию, но там заперто, нет никого, одна старушка Эмилия Лазаревна сидит в своей костюмерной, в пыли и нафталине, чинит какую-то многослойную крашеную марлю (для юбок ваших что ли?), ничего не знает и дрожит. Твоя мама боится, что ты где-нибудь за линией фронта. Немцы ведь очень быстро наступают.
Где ты, Настя? Что с тобой? Почему от тебя нет писем? Эти вопросы постоянно со мной, словно стали частью тела.
И о самом главном.
Очень легко написать на бумаге: я тебя люблю. И так трудно было выговорить эти слова в первый раз. Я бы, наверное, не стал писать этого, Настя, если был бы уверен в том, что ты получишь мое письмо, да и все остальные письма, которые я собираюсь тебе написать – обо всем, что происходит сейчас в Ленинграде. Мне бы очень хотелось писать только о том, что касается нас с тобой. Мне бы очень хотелось просто делиться с тобой впечатлениями обо всем на свете, обсуждать прочитанные книги или новые фильмы, рассказать о моих фотографических задумках. Я жалею о многом, что мы с тобой не успели совершить, о наших прогулках и болтовне. Мне все вокруг – и предметы, и улицы, и лица общих знакомых – напоминает о тебе. Я даже убрал в стол твою фотографию – ты уж прости, Настька, потому что готов часами смотреть на тебя, а нужно многое успевать. Я пишу для тебя и думаю о тебе, но в то же время я как репортер, пусть и будущий, понимаю, что мои письма – это документ, моя маленькая летопись о начале особого времени.
Вкладываю первые фотографии. Здесь ты на нашем любимом месте, где сходятся у Летнего сада три мостика. Только сейчас я смог ее отпечатать вместе с другими – новыми…»
Это была последняя Настина фотография, майская.
В конце мая, когда начала облетать черемуха и густо вспыхнуло сиреневое пламя, пришло настоящее летнее тепло. Настя надела новую светлую батистовую кофточку с короткими рукавчиками китайскими фонариками, с мелким цветочным рисунком, сшитую мастерицей-рукодельницей Тамарой, мамой Мишки. Надела к кофточке темно-синие шаровары из отливающего ровным глянцем сатина, тоже Тамариного изготовления, подобные тем плотно-шелковым, в каких актрисы иностранного кино ездили на велосипедах и роликовых коньках. Отыскала в нижнем ящике шкафа прошлогодние еще парусиновые туфельки, отчищенные зубным порошком почти добела и стертые частыми чистками почти насквозь. Надела она в порыве озорства также и мамину старую гномскую мягкую шляпку-колпачок, какие носили лет, наверное, десять назад или даже больше.
Шляпку Миша сначала высмеял, а потом, приглядевшись, не велел снимать, потому что вид у Насти в этой шляпке был задорный и независимый, тоже как у одной из голливудских киноактрис, изображавшей наивную, но предприимчивую девчушку в старом фильме компании «Метро Голдвин Мейер». И отправились они любимым маршрутом к Дворцу пионеров, по пути, по обыкновению, болтая, смеясь, немного споря и задирая друг дружку.
Когда от Летнего сада перешли на сторону Инженерного замка, к Мойке, Миша велел Насте сесть на тумбу набережного ограждения. Она примерилась, подпрыгнула, опираясь на руки, и ловко уселась на гранитный камень, левую ногу поставила на чугунные перила решетки, правую перекинула через колено левой, задрала нос к небесам и спросила:
– Так, что ли? – и засмеялась.
Когда Миша, не предупреждая, щелкнул затвором, Настя чуть не свалилась в воду. Она еле удержалась, вцепившись в камень и ободрав ладошки, и, конечно же, рассердилась на Мишку. Но зато фотография получилась удачная – хоть в журнал на обложку.
Правда, в какой журнал – вот вопрос. Для малочисленных молодежных изданий снимок был недостаточно идеологически выдержан. Кроме того, журналы-то были все больше рисованные. Изображались там бодрые работницы-ударницы с комсомольскими значками, спортсменки-рекордсменки в трусиках и майках с кубками и огромными букетами в обхват.
Какой уж там журнал! Но Мишу снимок ошеломил, потому что явил Настину новую, неожиданную кокетливую женственность. Это было открытием, к которому он привыкал много часов, и все у него в это время говорилось и делалось невпопад. И поэтому, наверное, на обратном пути, уже совсем вечером, когда они шли через парк и на танцверанде у Народного дома по случаю воскресенья эстрадный оркестр играл «Палому», Миша неожиданно для самого себя и от смущения шутовски пригласил Настю на танец. Настя прыснула, пожала плечиками в батистовых китайских фонариках, но протянула навстречу руки, и они даже сделали два-три танцевальных шага по дорожке, не обнявшись, как положено, а взявшись за руки, как малыши танцуют на праздниках, но потом застеснялись оба и от стеснения даже немного поругались. И поводом послужила, конечно же, Мишкина танцевальная неуклюжесть.
– Ты нарочно, – фыркнула Настя, – не могут так ноги заплетаться у нормального человека!
– Я же не балерина, – ответил Мишка.
– Балерина не балерина, а ритм должен чувствовать.
– Какой там ритм! Ну музыка. Танго, да? Или – как ее? Хабанера? Сто раз слышали. Соседка Нинка третью пластинку меняет – с Клавдией Шульженко. Заездила, один патефон на уме. Что ни вечер, то «Голубка» эта самая. И все слушают. И мама тоже. И штопает под «Голубку», и кашу варит, и Володьку укладывает.
– Мишка, ты чего? – растерялась Настя, потому что не часто видела Мишку настолько рассерженным.
– Ничего. Можно и потанцевать, если хочешь, но без твоей критики. Я же не балерина, – повторил Мишка.
– Мишка, ты и есть мишка, – засмеялась Настя, – медвежонок неуклюжий. Ну постарался бы! Георгий Иосифович говорит, плохому танцору всегда ноги мешают. А тебе фотоаппарат, не иначе!
– Мне он никогда не мешает!
Но Настя уже смеялась и, как в детстве, тащила Мишку за руку туда, где продавали мороженое и ситро…
Потом был Павловск, первый поцелуй, блуждания там, где, откроем секрет, заблудиться-то сложно. Была полусумасшедшая старуха с сияющими глазами, которая вышла прямо из елки. Запомнилась ее потертая сумка-корзинка, наполненная цветущей травой, а слова о многоубийственной войне и свадьбе через семьдесят лет все не давали покоя.
Потом Настя уехала с ансамблем и увезла с собой солнце. Зарядили дожди. И едва они прекратились к тому памятному воскресенью, как черные тарелки репродукторов принесли черную весть, будто для того и была кем-то предназначена их глухая картонная чернота.
«…Еще мне кажется удачным фото, где мобилизованные идут по Кировскому проспекту. Шли они по жаре, в полном обмундировании, кое-кто хромал. Папа сказал – сапоги неразношенные, если портянки плохо намотаны, ноги сбиваются сразу. И лица у них, пока не приглядишься, казались все одинаково серыми, пыльными и с одинаковыми складками-заломами, как на сапогах.
Я их отряд со спины снял, специально контражуром – против солнца. Чтобы получился черный силуэт, черная масса, и тонкие стволы винтовок на фоне светлого неба. Они очень нестройно шли, еще не примерились, не притерлись, папа сказал, необученные, и винтовки над ними – туда-сюда, как пьяный лес. Шли они не очень в ногу, и оркестр играл марш „Черных гусар“.
Помнишь, конная милиция всегда выступала под этот марш? Мы с тобой когда-то думали, что этот марш – что-то революционное или особое милицейское, пока дворник Илья Николаевич не объяснил. И еще издевался – пролетарская милиция „револьюционным“ образом экспроприировала музыку пятого гусарского Александрийского полка, потому как ничего своего выдумать не способна – не дал Господь даже солдафонского таланта. Терпеть его не могу, Илью-дворника! Он даже, помнишь, спел куплет с припевом, а я запомнил, может быть, ты тоже, и Володька запомнил, и теперь, дурачок маленький, поет во весь свой голосишко, как только заслышит оркестр.
Я вкладываю фотографию, где мама с Володькой во дворе ждут машину с целым возом добра, и папа их провожает. Но они уже вернулись, Настя…»
Володьку собрали на дачу. Он, одетый по-дорожному – в широкие короткие штанишки на помочах, которые были ему немного уже не по возрасту, в немаркую синюю вискозную бобочку, с панамкой на голове – чтобы не забыть, не дай бог, сидел на чемодане, бил в него, как в барабан, топал маршевым топотом и подпевал оркестру, гремевшему на Кировском:
Кто не знал, не видал
Подвигов заметных!
Кто не знал, не слыхал
Про гусар бессмертных!
Начинай, запевай
Песню полковую!
Наливай, выпивай
Чару круговую!
Марш вперед,
Труба зовет!
Черные гусары!
Марш вперед,
Смерть нас ждет!
Наливайте чары!
Ждали грузовика, накануне отловив в автопарке и соблазнив деньгами попутного шофера, который вез за Лугу, в Югостицы, пустые бидоны из-под молока, чтобы назад везти полные из колхозного хозяйства. Тамара в который раз пересчитывала узлы и корзины, проверяла, не забыто ли что важное, и пребывала в полной уверенности, что если важное и не забыто, то уж обязательно забыто что-нибудь, кажущееся сейчас, в городе, второстепенным, без которого потом на даче будет не обойтись. Например, тюлевые занавесочки на окна и вышитые накидки на подушки, придающие уют и домашность чужому жилищу. Или толстые, «как зверь, мохнатые» полотенца, занимающие много места в багаже, в один момент набирающие в свой мех пляжный песок и травяной мусор, тяжелые в стирке, но какое без них купанье? Или сахарница с щипчиками для колотых кусочков, подстаканники, пусть и самые дешевые – с чеканными колосьями и звездой, простая стеклянная пузатая вазочка, чтобы ставить собственноручно собранные в поле лютики-ромашки-васильки. Или – непременно – штопальный грибок.