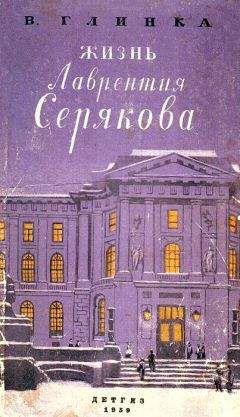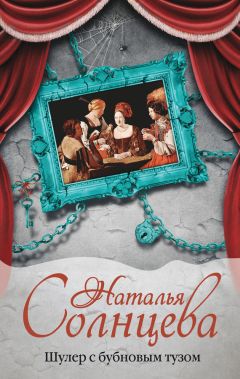В тот вечер, когда произошел разговор о Башуцком, Линк сказал во время прогулки:
— Есть и еще причина, почему я чувствую особенное расположение к господину Башуцкому. В его «Панораме Петербурга», если припоминаете, напечатан рассказ «Петербургский день при Петре Великом». Он был написан одним ссыльным из тех, знаете… ну, 1825 года, неким Корниловичем. Я его помню, он заказывал моему отцу седла. Очень веселый и ласковый к детям офицер… Так вот, Башуцкий не побоялся, исхлопотал у цензуры разрешение поместить его рассказ в сборник, правда без подписи, а деньги переслал матери Корниловича. Все мы, граверы, знали, что на «Панораме» Башуцкий ничего не нажил, это был только предлог помочь старухе, которая жила в нужде, и доставить ссыльному своему приятелю радость… А я полагаю, что хорошее дело, как и дурное, в одиночку не живет. Значит, в Башуцком есть и еще доброе… Вот я вашего Кукольника давно знавал и почитал пустым человеком, как и пустым писателем, а теперь вижу, что журнал он разумно вел, и узнал, что он для вас сделал. Значит, я был неправ и ему плюс на приход вношу знаете, как в счетных книгах. Пусть он хоть глуповатый и пьяница, но доброй души и полезное дело делал…
— Разве он глуповатый, Генрих Федорович? — запротестовал Серяков.
— Именно так, милейший Лаврентий, — решительно отвечал Линк. — Он на восемнадцати лет возраста остановился и что кругом творилось, не хотел или не сумел вовсе замечать… Я верю теперь, что он не подлец, вроде доносчика Булгарина, но восхвалять царей и «чистое» искусство в наше время может только отсталый, слепой человек… Вы не сердитесь, что столь откровенно о близком вам человеке говорю. Ведь именно потому и выбросила его жизнь из литературы, как никому не нужное, не интересное…
По субботам кончали работу в четыре часа, и все расходились «в отпуск из пансиона», как шутил Клодт. Бернард шел к дяде или ехал в Павловск на музыку, Кюи, как иногда и в будни, — танцевать к каким-то знакомым, Линк — к сестре, которая ждала ребенка и прихварывала, Лаврентий — на Озерный.
Он приходил к матушке, когда Антонов еще не возвращался из департамента. Марфа Емельяновна тотчас усаживала его обедать, расспрашивала о работе в артели, о товарищах. Но больше всего о том, что ел за неделю, не раз принималась уговаривать вместо трактира ходить к ней, тревожилась и ахала, что похудел.
Первое время Лаврентию бывало как-то странно приходить в гости в эту такую знакомую комнату. Но он постоянно видел матушку счастливой, помолодевшей, замечал, как принарядилась, — видно, и вправду началась для нее иная, своя жизнь.
Антонов приходил со службы обязательно с каким-нибудь гостинцем, и они, получив от Марфы Емельяновны одинаковые узелки с бельем и веники, отправлялись вместе в баню. И Антонов тоже был не прежний суровый департаментский служака — раздобрел, поминутно шутил и посмеивался, уверяя, что в будущем году выйдет в отставку и целые дни будет дома щелкать на счетах и мешать жене, вмешиваясь в хозяйство.
Он и теперь иногда хозяйничал с особым азартом и вкусом, если дело касалось заготовок впрок. Однажды Лаврентий застал его в кухне шинкующим капусту. Архип Антоныч был без мундира, рукава рубахи закатаны. Острая сечка так и мелькала. Марфа Емельяновна едва успевала подкладывать кочны в деревянную латку. На столе лежала гора вымытых антоновских яблок. У печки белела «запаренная» кипятком новая кадка.
— Ух, Лавреша, добрая будет капустка! — воскликнул Антонов, вытирая вспотевший лоб. — Бывало, в команде глядел, чтоб у вашего брата чего не своровали, а нынче сам у начальства ворую! — Он подмигнул в сторону Марфы Емельяновны и, сунув в рот кочерыжку, стал жевать ее с хрустом. — Чисто сахар! Выбрасывать жалко. Хоть свинок заводи в чулане!
Им было так очевидно хорошо вдвоем, что Серяков часто чувствовал себя здесь лишним. Но стоило ему замешкаться в субботу на Стремянной над спешной работой, как Архип Антоныч приходил узнать, не захворал ли, и дожидался, чтобы отвести, как нянька, к матушке.
Единственное, что выговорил себе Лаврентий, было право приходить в воскресенье на Озерный не с утра, а к обеду, часам к двум. В этот день он спал подольше, потом читал, шел пройтись. Целая неделя сидения за столом требовала движения, пешеходной дальней прогулки.
Как будто всё шло хорошо: за матушку он был спокоен, от заработка стал откладывать чуть ли не половину. Только одно тревожило: как быть с занятиями в академии? Когда в июне, чтобы разом устроить свое новое одинокое существование, он дал согласие вступить в артель, впереди было целое длинное лето. Но скоро начнется учебный год. Ведь нужно и гравировать десять часов и посещать классы. Не просить же себе исключительного перед товарищами положения!
В сентябре Серяков стал ходить на утренние занятия. Он тратил на это три с лишним часа и потом дольше товарищей сидел в мастерской. Сидел и в субботу, когда все расходились, а иногда прихватывал часа два — три утром в воскресенье. Иногда по субботам не ходил обедать на Озерный, отменил походы в баню с Антоновым и вечерние прогулки с Линком, почти начисто забыл о книгах.
Теперь по субботам он бывал в артели не один. С начала учебного года в отпуск к Кюи стал приходить младший брат, кадет Инженерного училища, носивший не менее звучное имя — Цезарь. Думавший летом более всего о модных панталонах и воротничках, легкомысленный танцор Наполеон вдруг преобразился в заботливого, даже нежного брата. В субботу после работы он тщательно убирал свою комнату, бегал в мясную, в кондитерскую и самолично, подвязавшись старой простыней, готовил вкусные блюда для кадета. Родители Кюи жили в Вильне, и у мальчика в Петербурге не было никого, кроме старшего брата.
Работая в мастерской, Серяков слышал звон посуды, до него доходили из кухни запахи жаркого и печенья. Потом раздавался звонок, и высокий голос младшего Кюи оживленно передавал училищные происшествия.
— А каковы баллы за неделю? — спрашивал Наполеон.
— По всем предметам двенадцать! — неизменно отвечал кадет.
Лаврентию становилось веселее работать, когда коротко стриженный худенький и бледный мальчик в слишком широком мундире входил к нему, чтобы поздороваться и посмотреть, как он режет.
— Лаврентий, ведь вы не откажетесь закусить с нами? — кричал из столовой старший Кюи.
Невозможно было отказать сияющему Наполеону, не отведать его стряпни, которую кадет ел с таким явным удовольствием. А потом Цезарь садился за фортепьяно и играл так, что Лаврентию, уже сделавшему нынешний урок, трудно было заставить себя уйти в баню или даже к матушке. Мальчик играл не так бойко, как Бернард, но пьесы, которые он исполнял, и его манера, мягкая и какая-то задушевная, нравились Серякову куда больше.
— Что это вы играете, Цезарь? — спрашивал он.
И всегда слышал имена Мендельсона или Шумана.
Утром в воскресенье, ровно в девять часов, Лаврентия будили звуки фортепьяно. Лежа в постели, он слушал музыку и думал, что маленький кадет, видно, сильно привязан к своему искусству: едва дождется времени, когда можно начать играть.
Серяков рассказал на Озерном о братьях Кюи, и матушка стала по субботам печь медовые пряники, которые так любил в детстве ее сын. Вечером Лаврентий приносил их в артель и вместе с парой яблок от Антонова передавал Наполеону — пусть сунет в карман кадету, отпуская его обратно в училище.
Однажды в начале ноября при выходе из академии швейцар сказал Серякову:
— Эй, служба, его превосходительство Василий Иванович наказал тебе явиться немедля.
Сердце Лаврентия ёкнуло. Конференц-секретарь Григорович слыл самым грозным из академических начальников — он, по существу, управлял академией. Вице-президент граф Толстой занимался только вопросами искусства и всю, как говорили, «распорядительную часть» возложил на Григоровича. Серяков близко видел всесильного конференц-секретаря только раз, когда передавал пакет из департамента, и хорошо помнил строгое лицо с темными нахмуренными бровями и седыми баками. Вызов к нему не предвещал ничего хорошего.
— Ты чего же, батенька, на вечерние классы не ходишь? — спросил Григорович, когда Лаврентий вошел в кабинет и застыл у порога.
Серяков рассказал свое затруднительное положение.
— Академии все это не касается, — сухо сказал конференц-секретарь. — Ты сюда зачем прислан? Учиться? Ну и учись, как положено. А что ты где-то деревяшки для заработка режешь, так это не искусство, а профанация гравюры. Запросит меня военное начальство про твои успехи, что я отвечу? Что манкируешь классами? Понравится им это? Так что изволь-ка бывать ежедневно дважды в академии и рисовать исправно. А то на себя пеняй. Понял?
В тот же вечер Лаврентий пересказал весь разговор Клодту. Константин Карлович грустно усмехнулся: