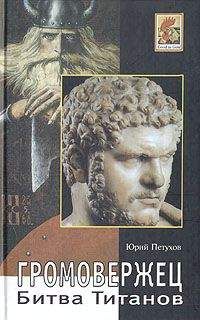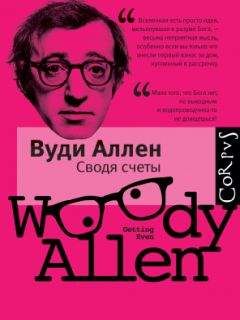Жив сам растерялся, когда ему доверили эдакое дело. Но виду не подал. Только приглядывался поначалу к брату старшему, заматеревшему, огрубевшему в неволе, но не утратившему царственной осанки.
Дон не признал в огромном стражнике родной крови. Только смерил взглядом с ног до головы, когда увидал впервые — силен, могуч, высок, на полголовы выше… но молод, такого можно свалить неожиданным ударом. Дон ждал только часа своего, звездной минуты. И Жив сразу понял это. Брат живет одной мыслью — о свободе! Да и по саду не гуляет, расслабляясь душой и телом, а все присматривается, приглядывается, примеривается, как и куда сподручнее… Жив давал Дону волю, не ходил по пятам, да Скарга придерживал — их дело не вести за руки Кронида, а быть постоянно меж ним и выходом наверх, в лаз потайной из нетемной темницы, в ход заветный.
Давно утихла в груди Жива неукротимая ярость, злоба на отца, на батюшку Крона, пришло спокойное понимание жизни… и его. Жива, места в этой жизни, в грядущем. Нет, не собирался он сидеть сложа руки, плестись в хвосте у Доли коварной и изменчивой, знал, что делать будет. Но не было жажды слепой, жажды мести. А вот старший братец не охладился в темнице за долгие годы. Дон пылал лютой злобищей к Крону, ненависть переполняла его, кажется, дай волю — разорвал бы отца голыми руками на части и собакам скормил бы. Жив все видел, все понимал. А еще он видел на шее у Дона пятнышко малое, родимое. Точно такое же было и у него самого, под ошейной гривной защитной. Точно такое же было по сказам Ворона у матери Реи, у матушки покойной. Многих повидал за последний год Жив, многое узнал. Жалел Аида, высохшего и несчастного, утратившего волю к жизни — тоже брат родной. Любовался дважды Гостией, Гостюшей, сестричкой милой — такая и в неволе всем отрада. Но пред глазами стояла одна-единственная, будто и не узница, будто хозяйка узилища… Впервые узрел ее, когда с Доном выгуливаться разрешили.
Дон тогда гулко шлепнул его тяжелой ладонью по броне нагрудной, улыбнулся криво, просипел сквозь зубы:
— Здоров, мальчуган! — И добавил, сурово глядя в глаза: — Быть тебе в войске моем сотником, а то и темником, как там тебя, э-э…
— Зива, — подсказал Жив.
— Странное имя, — проговорил Дон будто про себя, — не наше.
Жив смолчал. Шел поодаль, не утомлял навязчивостью стражника. А Скарг уже сидел на скамеечке меж кустиков и камней, болтал с девицей кареглазой, смеялся. Жив знал девицу, ее приводили в подруги княжнам заточенным, чтоб не скучали. Падкий Скарг был до красавиц, про дело помнил, оглядывался, косил глазом, а сам ус рыжеватый подкручивал да в любезностях рассыпался, норовил поближе губами к ушку розовому дотянуться, шептал горячо нежности… Жив не прислушивался, не его дело. Да и недолго то было — синеглазая девчушка стрелой выскочила из-за стволов тонких, из-за цветников, ухватила подружку за руку, увлекла куда-то, к озерцу, наверное. Только по Живу взглядом скользнула, с глазами его встретилась своими васильковыми очами — и будто перетекла вся из своих глаз в его. Убежала прочь… и осталась в нем. Замер Жив истуканом каменным.
Старший братец сам ткнул его в спину кулаком.
— Нет, служивый, не доверю я тебе сотню, — рассмеялся тихо, — проспишь ты ее, проворонишь!
Жив обернулся, поглядел на Дона в упор, будто не видя его, насквозь, все еще падая в синь бездонную, промолчал.
— Ладно, ты не теряйся, — добродушно успокоил Дон. — Давай-ка, служивый, силой с тобою померяемся. Или слабо тебе?!
Жив стряхнул оцепенение.
— Не положено, — ответил коротко.
— Ух ты какой! — Дон отступил на полшага, оценивающе пр иглядываясь к стражнику, презрительно кривя губы. — А ежели я вот так?!
Он резко взмахнул левой рукой у самого носа Жива, и неожиданно и сильно толкнул его правой в плечо, наступив на ногу. Жив невольно ухватил обидчика за туловище, обеими руками, сдавил, приподнял. И тут же две мощные ноги, согнувшись, уперлись ему в грудь — Дон вырвался из объятий, отскочил и, перевернувшись через голову, встал на ступни, подогнул колени, готовый к борьбе. А Жива отбросило назад, он еле удержался — старший брат весил не меньше быка-полугодка. Хотел было ринуться на него, попытать силы… Но преломил себя, заставил смириться, положил ладонь на рукоять меча, давая понять — он стражник, для охраны присланный сюда, а не для забав и потех.
Дон тут же выпрямился. Рассмеялся. Он был доволен собой и, судя по всему, большего ему уже не требовалось. Он лишь подошел ближе, хлопнул служивого по плечу — снисходительно, по-княжески. Сказал:
— Нет, быть тебе все же сотником, Зива! И ты им будешь, помяни мое слово. Все изменится. Все очень скоро изменится!
Молчавший и несводящий стального взгляда с Дона Жив при последних словах неожиданно кивнул.
Дон не оставил незамеченным это невольное, а может, и вольное движение, он подступил вплотную, сдавил плечи стражника, пристально заглянул в самую глубь глаз, в самую глубь души… и все понял. Там был ответ. Да, скоро, очень скоро все изменится! И не надо лишних слов. Этот служивый думает о том же, что и он. И Хотт с Оврием думают так же — Дон сблизился с обоими за последний год. Они были невиновны. И они не желали гнить в темнице вечно, даже ее стражами. С Хоттом Дон говорил прямо, не таясь. Бывший сторукий уже перестал ждать и надеяться… Да, каждый начинал осознавать, что не для того Великий князь бросил их в поруб, чтобы потом на белый свет выпустить, не для того! Но ведь они не могли почти ничего, не было у них ни сил, ни власти. А Крону достаточно произнести одно слово — и неминучая смерть настигнет их, будь то меч стража или нависшк- над головами глыбищи.
И Жив не солгал Скилу, когда отшутился, что, дескать, живет со своими мыслями и думами, они его жены первые и пока единственные. Конечно, были у него после Веши и другие девушки, женщины — как воли немного получил после/ проверок да испытаний, как приняли за своего в Дружине Кея — стал ходить в поселения, на игрища,/на плясы-хороводы. Негоже было отличаться от прочих, подозрения вызывать. Любил красавиц разных —/ночью ласкал их, днем и не узнал бы, наверное. Но подлинными женами — были думы его. Столько разного, светлого и черного, поверхностного и глубинного было передумано за годы, как со Скрытая уплыл, что и передать невозможно. И все одно ум занимало. Его доля ряд восстановить, справедливость. Но не мстить при том — это еще давно понял. Не мстить, но судить. Все решил, все продумал, просчитал наперед… И вдруг эти глаза синие, эта бездна васильковая. Безумие! Он переставал видеть мир, терял рассудок, когда глазища резвой и взбалмошной девчонки загорались пред его мысленным взором. Да, она вошла внутрь него, перелилась колдовской сутью своей. И он, могучий, закаленный, повидавший столько тягот и радостей в жизни, бессилен перед ней.
Он видел ее еще дважды. И снова взгляды их сливались в единое. И он немел, каменел. Она была совсем девочкой, едва достигавшей своей золотоволосой головой его фуди. Она была крохой в сравнении с ним. Но она властвовала над его душой, его сердцем — властвовала, не произнося и единого слова. Он не мог сам подойти к ней. Он знал, что это будет концом всего — и надежд и стремлений, его тут же выставят наверх, а может, и вовсе прогонят из дружины охранной. И она не подходила, и она знала, что под приглядом. Жив хотел уже было сам отказаться от права приходить Сюда, упросить Кея дать иную службу, ближе к великому князю. Ведь хранил он покой его в верхних теремах, один среди других, но имел доверие… Нет! Не было сил у него на такую просьбу. Жив ждал.
И дождался. Хотт, с которым перебрасывались доселе недомолвками и намеками про волю и неволю, про жизнь узилищную для обоих для них, подошел как-то раз, шепнул:
— Сегодня она будет в саду, подойдет к тебе у озерца, за валуном. Милка отвлечет напарника, заманит его на травку, она давно уж без ума от него, боялась все. Дон вам не помешает…
Жив уставился пристально в изуродованное шрамами лицо сторукого бывшего. Ему открывалось все больше, они заодно, они все заодно. Значит, жены его верные, мысли потаенные, верны ему, значит, правду говорят обо всем — приближается час заветный.
— …только меня не выдавай. Иначе смерть. Бабку Ярину в келье оставим. Оврий приглядит, и я на дозоре встану. Ну все, Зива! — Хотт обернулся испуганно. Но тут же добавил: — Эх, дурит княжна. Моя б воля…
Он не договорил. Сник под прожигающим взглядом, понял, что Зива не позволит говорить лишнего про нее, синеокую взбалмошную девчонку с недевичьей ярью в сердце.
Дон, и впрямь, в этот раз ушел к краю обрыва, к огороженной пропасти. Застыл на черном валуне таким же валуном, только сплетенным из жил и мышц. Уставился в серый просвет неба. Окаменел.
Скарга и след простыл. Только откуда-то из кустов доносился приглушенный смех его и девичьи повизгивания, шуршание.