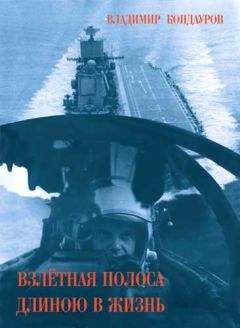Товарищи из постпредства в гости пожаловали. Выступили мы, зачитали приветственную телеграмму, присланную туркменским правительством. Потом взяли обязательства: жить, работать и учиться, как завещал нам Владимир Ильич. А вечером был концерт...
Вслед за торжествами потянулись трудовые будни и учеба в ликбезе. Жили с год, даже больше, в этих двух деревянных домах. Потом выстроили огромный дом, круглый, в виде кибитки. На открытие его приезжал сам Председатель Совнаркома Туркмении Кайгысыз Атабаев... Справили новоселье. Свадьбы были. Многое забылось, многое в памяти осталось и никогда не забудется.
Не забудется, как в день Первого туркменского съезда сняли девушки яшмаки и повязали красные косынки. Моя Зиба тоже. А домой вернулись, глядим — мать моя сидит.
— Здравствуй, мама, — говорю. — В гости пришла?
— Да и в гости, и не в гости, — отвечает. — Пришла просить, чтобы в свой дом жить шли. Измытарились мы с отцом без вас. Жизни нет. Тоскуем ведь. Отец давно тебе простил самовольство.
Тут я опять рассердился:
— Меня прощать не надо, мама. У меня за мою жизнь будет тысяча всяких самовольств, которые не понравятся отцу и тебе. Мы с Зибой люди новые. У нас и обычаи, и порядки новые, социалистические. А насчет того, чтобы вернуться, тут надо просить мою жену. Вы не одного меня оскорбили, но и ее. Я-то могу все простить, как родителям, а она — не знаю.
Мать ласково посмотрела на Зибу:
— Доченька, неужто так и не простишь дураков старых?
А Зиба уткнулась ей в плечо, да и заплакала. Немного погодя взяли свои чемоданы и отправились в отцовский дом...»
На этом отцовская запись заканчивается...
Утром за нами заехали. Мчимся по проспекту к вокзалу. Уже рассвело. Восток окрашен заревом надвигающегося солнца. Высокие клены и акации рдеют на фоне зарева. Деревянное здание вокзала словно дремлет. Пассажиры спят на скамейках.
Выходим на перрон. Тут пока никого нет. Но вот начинают подтягиваться корреспонденты газет и радио. Многие мне знакомы. Перед самым приходом поезда подлетает крылатый грузовик киностудии. Братцы-киношники установили «юпитеры» еще с вечера. Сразу включают их, и на перроне становится по-праздничному светло. А вскоре подошел и скорый поезд. Делегация, не спеша, выходит из четвертого вагона. Сначала две молодые женщины, затем Вера Улыбина. Такая же, какой я ее видел в сорок восьмом. Ничуть не изменилась. За ней спускается на перрон седоусый старик. И вот я вижу, как моего отца словно чем-то подтолкнули сзади: ринулся вперед, руки развел, кричит:
— Федор! Федор, брат ты мой! Вот, признаться, не ожидал! Ей богу, не ожидал!
Отец обнимается с Федором. Я сразу догадался: это тот самый Улыбин, красный командир московского отряда и к тому же — отец Веры. Она тоже обнимается с Айгуль. Обе плачут на радостях. И мама моя целуется с Верой Федоровной, и тоже плачет. Плачут от счастья, от радости встречи, а фотокорреспонденты щелкают аппаратами. Сверкают блицы. Киношники трещат своими «шарманками». И истые газетчики с записными книжками и авторучками от одного к другому бегают. Я стою рядом с отцом и Федором Улыбиным, а корреспондент «Туркменской искры» забрасывает их вопросами.
— Не секрет, — спрашивает он, — о чем вы вот сейчас говорите?
— Что ж, по-вашему, нам и поговорить не о чем? — баском отвечает Улыбин. — Я вот лично простить своему комиссару Природину не могу его оплошности.
— Позвольте, что за оплошность?
— А то, что всю гражданскую вместе прошли — пуля его не взяла, в Отечественную выжил, а в землетрясение ногу не уберег. Прямо наказание какое-то. Хоть не оставляй одного. Словно дитя малое!
Улыбин шутит, и отец посмеивается с ним. А корреспондент записывает в книжицу какие-то одному ему известные мысли.
Гостей отправляют в гостиницу. Улыбина мы с отцом тянем к нам домой. А Айгуль и мама моя увозят в старый текстильный городок Веру Федоровну.
Официальная встреча намечена на вечер: успеют старые друзья наговориться и отдохнуть.
— Жарковато, жарковато у вас, — тяжело дышит Улыбин. — Чую, жара не для моих семидесяти. В молодости вроде и не чувствовал ее. Ты-то, видать, молодцом держишься, коли не бежишь умирать на родину, — говорит он отцу.
— Да ведь трудно теперь сказать, где она — родина, — отвечает серьезно и раздумчиво отец. — Я ведь почти сорок лет отдал Туркмении. — И помолчав, прибавляет: — Да разве я один? Многих теперь и пряником не заманишь в родные деревни, хотя там — и грибы, и смородина, и прочая ягода.
Слово за слово, и старые вояки начинают вспоминать молодость. Вот уже о Ташкенте разговор заходит, о Бухаре. Я потихоньку ухожу от них и сажусь в своей комнате за стол.
Вечером — торжественная встреча в летнем клубе текстилки. На сцене составлены столы и застелены длинной красной скатертью. В президиуме — приезжие и свои: представители партийных органов, профсоюза, комсомола, лучшие рабочие фабрики. Федор Улыбин с отцом тоже там. Выступают товарищи. Один за другим выходят на трибуну. Я записываю, о чем говорят. Вот и папаша мой поднялся. Оперся ручищами о края трибуны, начал вспоминать прошлое. А потом заговорили о соцсоревновании, о быте и культурно-просветительных мероприятиях. Это то, что надо для газеты. Из такого фактажа и лепятся информашки.
Через два дня мой отчет ложится на стол редактора. Мямлов читает, прикрыв дверь. Я сижу в соседней комнате, обрабатываю письма. За столом напротив — Рябинин. До того, как отнести редактору свой «опус», я показал ему. Он ужаснулся:
— Ты с ума сошел, старик! Больше ста строк ни за что не дадут. У тебя там на целую полосу.
— Посмотрим, — говорю я неуверенно и все еще надеюсь на какое-то чудо.—А вдруг редактору понравится?
Проходит почти час, и вот вызывает Мямлов.
— Ну, что вам сказать, товарищ Природин. Материал вы, конечно, изучили глубоко. Но то, что написали — это не отчет. Я не знаю — что это такое. Не очерк, не повесть... Советую вам, покажите кому-нибудь в Союзе писателей. По-моему, это по их части... Что касается отчета, — помедлив, выносит он приговор, — придется написать заново. Коротко и четко. О самом главном. Такого-то числа, во столько-то, на таком-то вокзале, затем в таком-то клубе и так далее и тому подобное. И главное, не забудьте сказать, что нового привезли ваши земляки-реутовцы? Что интересного в прядильном производстве? Как оно развивается? Какими путями идет. Вам ясно?
Беру с редакторского стола десять своих страниц и отправляюсь к себе в комнату. На лице моем такое разочарование, что Рябинин испуганно спрашивает:
— Сцапался?
— Нет, зачем же... Просто я не понимаю пока какой-то газетной специфики. У меня язык не газетный, понимаешь?
— Чего ж тут не понять. Ну-ка дай.
Он долго и упрямо читает, а я терпеливо жду — что скажет.
— Тебе надо писать рассказы, — наконец говорит он.
— Спасибо, утешил.
Достаю из стола серый лист бумаги, заправляю авторучку и пишу так, как пишутся газетные отчеты. Пишу быстро, почти не думаю: факты — цифры, факты — цифры и выводы. Несу на машинку. Две странички всего. Читаю Рябинину вслух. Он говорит:
— Вот теперь отчет. Ты молодец. Но знаешь, старик, тебе надо бежать из газеты, если хочешь стать писателем. — И добавляет тут же, чтобы я не понял превратно: — И мне тоже. Обоим надо нам бежать из газеты.
Несу отчет Володину. Рыжекудрая бестия, прекрасный мой друг, берет страницы, разворачивает и неприятно морщится:
— Ты что? Да где я тебе место найду?! Ты же знаешь — газета не резиновая! Сократи страничку.
— Да пошли вы все! — кипячусь я. — Дай сюда!
— Подожди, подожди, не горячись. Ну, сократи хотя бы полстранички. Остальное я выкрою у кого-нибудь еще.
— Дай сюда! — требую я, разозлившись начисто.
— Руки, руки, — отмахивается он. — Ладно, иди и доверься мне. Все будет в порядке...
Ухожу в полном расстройстве. Вечером возвращаюсь домой усталым и злым. А тут, наоборот, веселье. Отец с Федором Улыбиным сидят за столом, пьют холодное пиво. Сразу же мне кружку подают.
— Ох и пивцо! — хвалит Улыбин. — Это единственное, чем можно спастись от жары в вашей Туркмении. Пей, да посиди с нами. Расскажи, чем занимаешься. Вот, Саня, отец твой не нахвалится тобой. Ты и корреспондент, ты и поэт. Ты хоть бы заметку написал о нашем посещении фабрики и вообще... — Уже написал, — говорю. — Завтра читайте в комсомольской газете.
Утром просыпаюсь от восторженных выкриков Улыбина:
— Ты глянь, Саня! А ведь и правда заметки во всех газетах. Ты погляди! А у сынка твоего целая петиция.
Выхожу из спальни. На столе ворох свежих газет. И молодежная наша тоже здесь. Смотрю. Отчет мой на первой полосе. Строчек восемьдесят, не больше. Значит, Володин все-таки подрезал еще строк на двадцать. Ну, молодец, кошкодав несчастный! — ругаю его про себя без всякой злобы, потому что давно остыл. Вся вчерашняя суета кажется пустячным делом. Отбросил газету. Улыбин говорит: