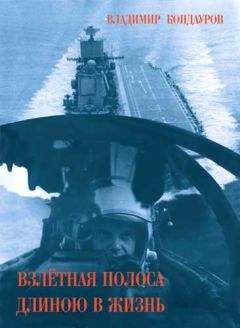— Конечно, мама... Сейчас же напишу...
Вхожу в комнату, сажусь и беру авторучку...
Через несколько дней опять гости. На этот раз — писатели Москвы. Трое их: два поэта и критик. Навес-тили редактора, посовещались, оставили новые стихи для газеты и ушли.
— Бездари, — ворчит Володин, читая переданные ему редактором стихи. — И, главное, почерк у всех один. Приезжают и сразу к нам. Считают своим долгом осчастливить молодежную газету. Нет, чтобы сесть да посмотреть стишата местных стихоплетов, помочь в чем-то!
Пока Володин свирепствует, вычитывая с машинки вирши гостей, нас — Рябинина, Балашова и меня, приглашают зайти в Союз писателей. Звонил литконсультант.
Союз писателей на углу улиц Гоголя и Мопра. Беленький особнячок во дворе прикрыт виноградной беседкой. От беседки аллейка на веранду. Здесь легкие столы и кресла. Утром и вечером тут принято пить чай и вести литературные беседы. Но сейчас полдень. На веранде знойно, никого нет. Там, внутри здания, всплески оживленного разговора. Стучимся к председателю. Заходим. Сидят, пьют чай Кербабаев, Кара Сейтлиев, Аборский, Карпов и московские литераторы.
— Пришли, бедолаги? Ну, проходите, — берет на себя миссию хозяина Карпов. — Вот, — говорит он одновременно всем, — это и есть наша могучая кучка. Своего рода «серапионовы братья».
— Братья-скорпионы? — уточняет один из москвичей и подает руку. — Гордеев.
Другие тоже называют свои фамилии. Затем нас приглашают к круглому старинному столу на львиных лапах. Мы переминаемся с ноги на ногу, играем в этаких застенчивых ребятишек. И тогда тихонько заговаривает Кербабаев:
— Садитесь... Это очень хороший стол. В самом начале века за ним сидел Василий Ян. «Чингиз-хан» и «Хан-Батый» от этого стола пошли.
— Что вы говорите, Берды Мурадович? В самом деле? — удивляется Гордеев.
— Не только Ян, — продолжает Кербабаев. — Многие за этим столом чай пили и рукописи читали. Платонов, Всеволод Иванов, Павленко... Я думаю, этого достаточно, чтобы понять, для чего мы вас усадили за этот стол, — говорит, легонько посмеиваясь, Берды-ага, и смотрит на нас.
Критик восхищается:
— Поистине, Туркмении везет! Ни в одной республике не бывало столько маститых писателей, как у вас!
— А что, если и я сяду за этот стол, — шутит Гордеев. — А ну-ка, подвиньтесь, братцы, я кресло поставлю.
Он садится рядом со мной и спрашивает...
— Поэты... Начинающие?.. Ну, ну... Добро, добро! — с ударением на конечное «о» выговаривает он.
— Пока еще непромешанная глина, — острит Павел Карпов. — Перемелется: может, что-то и останется. А что останется и высохнет — по ветру развеется.
— Ну и эпитеты ты подбираешь, Павел! — сердится Аборский.
— Ничего, ничего, — говорит Кара Сейтлиев. — Ребята все свои, не обидятся.
Кербабаев, видя, что идет пустая болтовня, встает. Сразу все умолкают. Авторитет у «аксакала» всесилен. Он никогда не говорит громко, никого не перебивает, не спорит, но всегда держит аудиторию в «своих чарах». Вот он помолчал, пожевал губами и начал. Словно бы невзначай сказал:
— Конечно, теперь все лучше и лучше в литературе... Вот, не так давно декаду в Москве провели, показали себя. Заметили нас. Коллективный сборник поэзии выпустим, альманах откроем. Вот. Павел Карпов, бывший наш пограничник, будет у нас редактировать альманах... Давай, скажи пару слов молодым друзьям...
Мы обмениваемся восхищенными взглядами и начинаем шептаться: «Альманах? Неужели? На русском языке? Если так, то это здорово!» Карпов встает, приглаживает пальцами брови:
— Ну, что тут говорить? Рукописи в общем для альманаха нужны. Союз надеется на вас, молодых. Собственно, ради роста молодой литературной смены и открываем это периодическое издание...
Мы заговорили, завертелись за круглым гениальным столом. Восторг полный. Карпов повышает голос:
— Несите, у кого что есть: смотреть будем. Вот и товарищи московские помогут! Давай-ка, Саша, — подсказывает он Аборскому,— записывай, у кого что есть.
— Успеешь, успеешь, Павел, — отмахивается тот. — Принесут, тогда и запишешь.
— Да сейчас прикинуть надо! — повышает голос Павел Яковлевич. — Может, одна скорлупа яичная, а яиц-то и нет!..
— Берды Мурадович, скажите ему, чтобы не партизанил, — просит Аборский.
— В рабочем порядке решишь, — тихонько подсказывает Кербабаев. — Сейчас мы пойдем пообедаем, а ты в это время поговори с ребятами.
Все отправляются в гости к Кербабаеву. И Карпов заспешил:
— Ну вот что. Завтра к десяти утра с рукописями ко мне. Договорились?
Тут же он надевает соломенную шляпу и бежит догонять всю компанию...
Проходит день, другой, третий. Отнесли Карпову — каждый свое. Я составил из десяти небольших стихотворений цикл «Огни в пустыне». Жду с нетерпеньем, что скажет редактор. За ним последнее слово. В субботу после полудня звонит, чтобы зашел. Сажусь в такси, мчусь на угол Мопра. В Союзе тихо. Все уже разбрелись. Только Карпов и Гордеев сидят.
— Пришел? — грубовато встречает Карпов. — Ну, садись. Вот, Гордееву твои стишата понравились. Хочет рекомендовать в «Смену».
— А в альманах не пойдут?
— Пойдут и в альманах. Одно другому не помешает. Ты вот что. Раз уж Гордеев открыл в тебе поэта и позаботился о тебе, свози-ка его на Нису? Я тебе машину дам. Покажи и расскажи, что знаешь об этих... как их... о парфянах.
— Когда ехать?
— Может быть, сейчас прямо? — предлагает Гордеев. — Это далеко?
— Нет. Полчаса езды.
— Ну, тогда сейчас и поедем.
Мы садимся в «Победу». Шофер Карьягды разворачивается во дворе, спрашивает, куда ехать. И вот уже мы летим по проспекту, через Кеши, через шлагбаум на фирюзинское шоссе. Справа равнина, переходящая в пустыню, слева холмы и кладбище. Сияют на ослепительном ашхабадском солнце стеллы и плиты могил.
— Стихи твои мне понравились, — говорит москвич. — Давно пишешь?
— Да с детства еще...
— Добро, добро... А откуда сам?
— Из Подмосковья.
— Добро... А я сибиряк... Гляжу вот на эти могилы, и отца вспомнил. Он у меня был. крупным партийным работником. В Сибирском обкоме работал. Сгинул в тридцать седьмом... — Немного помолчал, и продолжил: — Сейчас главное — раскованность. Понимаешь? Человек — вершитель своей судьбы. Человек достоин этого. Мне понравились твои стихи прежде всего тем, что в них нет ложной помпезности. У тебя есть чувство времени. Именно рабочий сейчас — хозяин положения. Как это у тебя:
Сбивают плотники стропила, а он огнем кроит железо!
— Спасибо, — говорю. — Только не очень верю, чтобы напечатали.
— Напечатают, — уверяет он.
Сворачиваем в Багир. За садами и домами райцентра видны древние курганы — городища древнего Парфянского царства. Там произведены основные работы. Еще в пятьдесят третьем я возил сюда пионеров. Тогда как раз вскрыли тронный зал царя Митридата и винные погреба с огромными хумами. Мне посчастливилось увидеть монументальную древность в ее первозданном виде, когда стены раскопанного дворца сияли глазурью и яркими красками, а изразцовые полы отливали холодной глубиной прошлых веков. И парфянские статуи стояли на пьедестале — слева и справа от царского трона. А когда я осматривал винные хумы, огромные кувшины, совершенно целые, даже не поцарапанные, я почему-то все допускал мысль — в каком-нибудь, может быть. осталось вино. Обо всем этом я рассказываю Гордееву. Он слушает внимательно и, потом, когда мы оставляем машину и взбираемся на курган, разочарованно разводит руками. Ничего подобного, о чем я рассказывал, мы тут не видим. Огромный тронный зал выглядит глубокой круглой ямой с подведенными к ней траншеями. И винные погреба всего лишь квадраты в земле. Единственное, что осталось, — это черепки битых кувшинов и посуды...
С городища оглядываем предгорья Копетдага. Они тут сказочно хороши. Равнина, сплошь покрытая яблоневыми садами, полукружьем вдается в горы. Отроги от того, что они лежат в тени вершин, выглядят черно-голубыми. На них какая-то таинственная вечность. Мне известна трагедия Нисы: я ее вычитал то ли у Бартольда, то ли в Академии наук Азербайджана, когда ездил в Баку. Кажется, в 1220 году, когда монголы захватили Нису, они вывели сюда к горам семьдесят тысяч жителей: женщин, стариков, детей. Велели им всем связать руки. И когда все семьдесят тысяч были связаны, воины Чингиз-хана бросились на них и начали рубить. История эта достоверна. И то, что она свершилась вот здесь, возле этих гор, всего в трех километрах от городища, — это вызывает в душе смятение и протест жестокости. Мы оглядываем место древней трагедии и молчим.
Прислушиваемся к тишине. Она здесь неповторима, какая-то звенящая. Чем больше в нее вслушиваешься, тем яснее слышишь звон в ушах. Но это не в ушах звенит. Это прослушивается голос ушедших тысячелетий. Они глубоко, глубоко, под толщей вековых наслоений! Их может постигнуть только воображение, порожденное этим древним таинственным звоном...