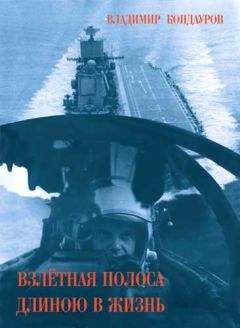— Только обобщить надо было. Мы ведь связи держим не только с текстилкой, но и с другими предприятиями, и со школами вашими. А то ведь почитают твою заметку молодые люди и не поймут всего значения нашего приезда. Скажут: было, мол, что-то в двадцатых. Напоминать им надо о рождении дружбы русских и туркмен. Это, если хочешь знать, и есть социалистический интернационализм в действии. Только обюрократили мы его. Все мероприятия к птичкам приравниваем. Провел — и с рук Долой...
Ну, думаю, завелся старый ветеран. А он, действительно, не унимается:
— А ты знаешь, Марат, друг милый. Вчера мы с твоим отцом прикинули... Саня, поди сюда, чего ты застрял там! — зовет он отца.
— Бреюсь я. Но мне слышно все. Говори, говори!
— Ну вот... Вчера мы принялись вспоминать, у кого как жизнь сложилась. А вспоминали тех, кто у нас на Реутовке специальность получил и в школе учился. Человек сто вспомнили. Правда, и тех, кто в Серебрянном бору учился, тоже подсчитали. И вот тут какая картина. Все эти люди в настоящее время занимают самые видные посты на производстве и в конторах. Кто директором стал, кто начальником цеха... В райкомах многие, на профсоюзной работе. А сколько министров и председателей всяких! Но и это еще не показатель, как выражаются некоторые. Оказывается, еще дальше своих родителей пошли дети наших реутовцев. Тут и летчики, и врачи, и ученые Академии наук, и даже за границей в посольствах работают... Тут что я тебе хочу сказать, Марат, чтобы ты усвоил — что такое Реутов! Реутовская дружба — это ворота в социалистический интернационализм... Улыбин говорит безумолку, и глаза его светятся молодо и задорно. Вроде бы давно известные истины, а задевают они и меня.
В начале девятого прощаюсь со стариками до вечера и отправляюсь, по выражению мамы, на службу. Две пересадки — из автобуса в автобус, с десяток улиц и улочек, все еще облепленных времянками, и вот она «Сивинская». Огромный редакционный двор, приземистые бараки, в коих размещены газеты, склады, гараж, цветные клумбы и прочее. Вид нашего двора со всеми его постройками самый нереспектабельный. «Но именно здесь обретают крылья хорошие начинания и здесь летят пух и перья из крыльев порока!» — так однажды выразился величайший поэт нашего времени М. Природин. Ну, а если без шуток, то здесь мы переворачиваем и перевариваем массу разнохарактерных дел, и имя этим делам одно — текучка.
Эдик только что вернулся со стройки Каракумского канала. Он и без того парень мечтательный, а тут еще под впечатлением. Рассказывает, засунув руки в карманы чесучевых брюк и шагая из угла в угол:
— Вот где жизнь! В полном разгаре, как говорится. Вот куда надо ехать! Вот о чем надо писать! Эх, жаль, что я учусь в вечернем.
— Ну, а все-таки, что там сейчас, конкретно? — спрашиваю я.
— Там все конкретно. Там нет никаких условностей, — живо парирует он. — Вся пристань в Мукры заставлена экскаваторами и скреперами. С Волго-Дона техника идет. Братцы-строители тоже с Волго-Донского канала. Даже плавучую электростанцию пригнали оттуда. Уму непостижимо. Говорят, везли на платформах, а тут на Амударье уже собрали. Эх, если б не учеба!
Он так возбужден, что в его рассказе вовсе нет стройности, и понять, что уже сейчас сделано на канале, невозможно. Но темперамент его и желание отправиться в пески передаются мне. У меня сердце начинает зудеть. Я слушаю и думаю: «Бросить надо всю эту текучку и — ехать!»
Эдик показывает снимки, которые привез для газеты. Намеревается сделать фотоочерк. Вот экскаватор. На его фоне двое парней с огромными гаечными ключами. Вот плавучая электростанция в речной заводи. Снимки, снимки, снимки... Много их, все на одну тему.
— Слушай, что если я отправлюсь на канал? — предлагаю я.
— Боюсь не справишься, Марат. Тебе надо потереться как следует в аппарате. На информашках ты уже набил руку, а оттуда нужны репортажи, статьи, очерки...
Я молчу. Но злюсь. Прямо Эдик не наносит обид, но из его слов всегда понятно: «ты еще — ничто!» Впрочем, может быть, он и прав. Но мне хочется бежать от такой правды. Хочется найти товарища, который бы заставил меня поверить в собственные силы. Ладно, думаю, не будем ссориться из-за этого. В конце концов жизнь — борьба и бесконечные противоречия...
В четверг проводили реутовцев. На вокзале уже не было ни киношников, ни газетчиков. Все сказано. Приехали, встретились, подвели итоги соцсоревнования. Теперь до следующей встречи. Из прессы почти никого, но зато текстильщиков много. Опять объятия и рукопожатия, напутственные слова и обещания.
Мать моя расстроилась, слезы платочком вытирает.
— Надо бы нам, Маратка, с тобой в отпуск к ним съездить, — предлагает она. — Одна я боюсь, а папашу твоего с места не сдвинешь. Кроме Средней Азии он теперь знать ничего не хочет...
— Мама, я — за. Я увезу тебя, моя прекрасная Зиба, от твоего ненавистного мужа!
— Ты что болтаешь! Вот глупенький-то!
— Мамочка, шучу. Кажется, ты перестала понимать меня.
— Еще как понимаю. Жениться тебе надо, сынок!
В общем выдала. У кого что болит, тот о том и говорит. Уж как ей хочется поскорее сделаться бабушкой. Странное желание. Я беру маму под руку и веду к машине. И здесь она не оставляет меня в покое:
— Марат, а что это за девушка, которая прислала тебе письмо?
— Какое письмо?
— Ну, которое я тебе вчера на стол положила.
— Не видел никакого письма, мама!
— Ладно, ладно... Не хочешь сказать — не говори. Только не обманывай.
— Мамочка, клянусь тебе, никакого письма я не видел!
— Ну, приедем, посмотри — на столе лежит.
«Неужели от Тони? — вспыхивает мысль. — Вот если бы от нее!» — но тут же беру себя в руки: «Нет, к Тоне возврата не будет! Никогда и ни при каких обстоятельствах». Так думаю, но совершенно не уверен в себе. Если б она сейчас предстала передо мной, я бы не сдержался — заключил ее в объятия...
Вхожу в дом первым. Мама отстает. Открываю дверь в свою комнату. Действительно, на столе лежит письмо. Как я его вчера не заметил? Беру. Чей почерк — не пойму. Незнакомый почерк. Не Тонин. Вскрываю конверт, разворачиваю листок, читаю бегло:
«Здравствуй, Марат. Ты не ожидал, конечно, получить от меня письмо. Но я переписываюсь с Чары и его женой Олей. И они дали мне твой адрес. И еще сказали, что у тебя был недавно день рождения. Извини, я не знала. Так что, хоть и с опозданием, но поздравляю тебя.
Как ты живешь в Ашхабаде? Хорошо ли у вас? Я по-прежнему работаю в санчасти. Алешка подрос, ходит в садик. Год, другой и пойдет в школу. Очень похож на Костю. Осенью мы, наверное, поедем в гости к Чарышкиным родителям. И вообще, у меня появилось желание переехать к вам, туда. Может быть, даже в Ашхабад. Ты помнишь день, когда мы сидели в столовой? Ну еще писатель с тобой был. Кажется, Балашов. Помнишь? А со мной были медички и военврач. Сейчас одна из них работает в поликлинике и приглашает меня на работу к себе. Пока, говорит, поживешь на частной квартире, а потом получишь. У нас, говорит, всем постепенно дают новые квартиры, потому что Ашхабад сильно строится... Ну, что еще сказать? Иногда бываю на могиле у Кости. Посадила цветы... Те ребята, которых ты знал, все демобилизовались. Говорят, Мирошин этот, который за самолет зацепился, сейчас у вас на Каракумском канале работает. Офицеры тоже многие ушли в запас: техника ведь новая, не каждому под силу. Бабаев ушел в дивизию, а Михайлов, муж Маши, теперь командует полком. Ну вот и все. Счастливой тебе жизни! Нина Трошкина».
Боже мой! Вот, оказывается, это кто! Нина! Костина жена...
У меня поплыло в глазах, затуманилось сознание. Я увидел вновь зелено-голубую Хурангизскую долину, снежные горы, Куткудук, русалочек, Тонечку с голубыми сияющими глазами, общежитие, питомник, ту новогоднюю ночь... Если б не Лал Малахитович! Ну откуда он взялся?!
— Маратка, ты чего замолчал? — окликает мама. — От кого же письмо? Может, скажешь?
— От Нины Трошкиной, мама. От жены моего погибшего друга.
Мама кивает и некоторое время молчит. Затем спрашивает:
— Может быть, ей надо помочь, Марат? Она, наверное, одинокая женщина. Она еще не вышла замуж?
— По-моему, нет...
— Ну давай пошлем ей посылку. У нее же сынишка есть?
— Есть... Алешка Трошкин, — говорю. — Ему уже шесть лет...
— Давай, Маратка, пошлем посылку. Надо только игрушек хороших купить.
— Надо, надо, мама. Я чувствую себя виноватым перед ними. Я давно должен был это сделать...
— Положись на меня, Маратка, — утешает мама. — Я сегодня же займусь посылкой. — А ты не откладывай, напиши письмо.
— Конечно, мама... Сейчас же напишу...
Вхожу в комнату, сажусь и беру авторучку...
Через несколько дней опять гости. На этот раз — писатели Москвы. Трое их: два поэта и критик. Навес-тили редактора, посовещались, оставили новые стихи для газеты и ушли.