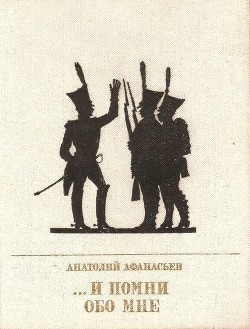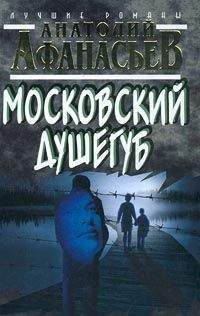Позавтракали плотно, как пообедали. Хозяин собственноручно поджарил яичницу на сале и подал разогретый вчерашний борщ. Кристич, правда, почти не ел, выпил стакан водки и пожевал маринованных грибочков.
В девятом часу выехали из Житомира. Денек был не похож на вчерашний, посвежей, посветлей. С высокого, заголубевшего по краям неба нет-нет и проглядывало солнце. Сухинов не обнаружил среди охраны знакомого толстенького полицейского. Вместо него трусил на низкорослой лошаденке разбойничьего вида детина. Сухинов понял, что хитрый Кристич каким-то образом избавился на всякий случай от ненужного свидетеля. «Пожалуй, он правду сказал, — подумал Сухинов. — Тем, кто на него донесет, не позавидуешь. Тертый калач. Чего же это он со мной так нянчится? А черт ее разберет, человечью натуру».
Бородатый возчик, когда никто не видел, сунул ему дымящуюся цигарку. Сухинов с благодарностью затянулся. «Истинно русский человек, если его душу сызмала не покалечили, всегда сочувствует попавшему в беду», — подумал он и от этой мысли повеселел. Положение, в котором он очутился, более всего мучило его тем, что он был лишен движения, потерял право распоряжаться собственным телом. Это было непривычно и дико, хотя он понимал, что худшее еще впереди. Сейчас он по крайней мере куда-то едет, видит небо, и поля, и деревья, общается с людьми, с тем же сумасшедшим Кристичем, а дальше его мир, скорее всего, ограничится замкнутым пространством тюремной клетки. И правильнее было не думать о завтрашнем дне, а жить минутой, наслаждаться вот этой цигаркой, глотками свежего воздуха, открывающимися взгляду просторами. Но наслаждаться было трудно. Стоило пошевелиться — железо отвратительно звякало. Он смотрел на оковы с отвращением. Судорога кривила его лицо, когда он вспоминал о человеке, находящемся за тысячу верст от него, по чьей зловещей воле его одели в железо и под конвоем везут на расправу. Образ этого человека вставал перед ним неясно, но поднимал из глубины души леденящие волны ненависти.
Первые дни неволи особенно тоскливы — это известно. Для Сухинова, человека энергичного, азартного, Они были тяжелы вдвойне. Минутами его душу сминало такой силы чувство обреченности, что он начинал раскаливаться, как маятник, и вполголоса, сквозь зубы, по-волчьи подвывать. Он и клял себя за слабость, и стирался думать о чем-нибудь постороннем и приятном — не помогало. В ограниченном в движениях теле постепенно набухало что-то мерзкое, инородное, порой ему чудилось, что он разбухает, как шар. Он горько сожалел о том, что пистолеты его подвели, дали осечку — там, в темном погребе, сотни лет назад. Но тут же утешал себя тем, что свести счеты с жизнью никогда не поздно, в любом положении можно найти для этого время и способ.
На обед остановились в маленькой деревушке. Сухинов отказался слезть с телеги и попросил оставить его в покое. Детина, заменивший толстенького полицейского, принес ему хлеба, две луковицы и кувшин с водой. Сухинов вежливо его поблагодарил, но есть не смог, только попил воды. Кристич за обедом, видимо, изрядно выпил, потому что опять стал возбужден и болтлив. К своему подопечному он проникся полным доверием и без опаски кощунствовал:
— Бога, может, и нет, раз его никто, кроме попов, не видел, но дьявол, скажу тебе, Сухинов, точно есть. И это он правит миром. Ему все подвластно! — Чтобы удобнее было разговаривать, Кристич спешился, шел рядом с телегой, ведя коня в поводу, месил тяжелыми сапожищами грязь. — И я лично с ним встретился не далее как о прошлом годе. Изловил я одну дамочку в Одессе, воровку, и даже, возможно, чего похуже. Следов за ней много тянулось, но доказать ничего нельзя, за руку не поймали. Ну это как раз не важно. У меня не такие орлы, если я очень попрошу, откровенничали. А эта дамочка, веришь ли, тонкая, нежная, гибкая, личико светлое, озорное — одним словом, красоты необыкновенной. Посадил я ее сперва на двое суток в сарай, где крыс и всякой подобной твари вдосталь, а потом повел допросы. То есть один раз я ее всего допросил, и вот как получилось. Пока я на нее не смотрю, все в порядке — допрашиваю, путаю, но стоит голову поднять, с ее дьявольскими очами столкнуться — язык и немеет. Бормочу какую-то околесицу, заикаюсь через слово. Помаялся так с полчаса, хватит, думаю. Встал, значит, из-за стола и иду к ней. Счас, думаю, я ей кулаком промеж глаз слегка хрясну, наваждение и отстанет. А это ведь у нас первое дело — маленько потрясти горемыку-злодея… Да она, видно, угадала, зачем я к ней иду, — шасть в угол, там сжалась в комок и зубками от страха щелкает. Я ей ревом:
— Будешь добром отвечать?!
— Буду! — И тут на горе себе опять я с ее бездонными очами скрестился и уж своего взгляда отвести не могу, не имею мочи. Чую только, что слабну, ноги в коленях гнутся. Впору самому пощады просить. Ты слушаешь меня, Сухинов? Это тебе полезно знать, в каком обличье иной раз дьявол предстает. В твоем злодейском промысле это обязательно надо знать. — Кристич гулко захохотал, но как-то с натугой. — Не хмурься, Сухинов, я к тебе по-дружески… Слушай, что дальше. Выползла она из угла, вытянулась на цыпочках и — прыг! — мне на шею повисла. Ручками обвила, тельцем вдавилась и в губы впилась с ненасытной страстью. А? Это как? Я и разомлел, себя уже не помню. Поволок ее было на скамью, а она шепчет в ухо, да сладко так: «Погоди, родненький, душно здесь, открой сперва окно!» Я послушался, своей воли уже не имею, отворил окно. Она на подоконник вскочила и — нет ее. Я пока отдышался, выглянул — нет ее, и во дворе нет. Улетела! Я часового к себе, так и так, девка, мол, мимо тебя сейчас пробегала? Он глазами хлопает, никакой девки не видал. Ну ему-то я уж, конечно, врезал от души. А про себя думаю, нечисто тут дело. Не иначе, дьявол это был. Именно дьявол в женском обличье. Обратился в птаху и в небо взмыл. И ведь как он легко со мной совладал… Вот такой необычайный случай. Ты веришь мне, Сухинов?
— Отчего же, конечно верю.
— А ведь я соврал, зачем верить? — осклабился Кристич.
— Хорошо соврал, складно.
Кристич нагнулся к нему близко, налитые кровью глаза его чуть не соскакивали с лица.
— Ты не майся, Сухинов, может, помилуют. Так бывает, я знаю. Стращают, запугивают, а потом — на тебе, воля вольная. Еще и денег дадут впридачу!
Сухинов вдруг понял, что этот нескладный расхристанный человек все делает для того, чтобы его растормошить, успокоить, да только не знает, как подступиться. Опыта не имеет в таких делах.
— За добро твое спасибо тебе, Кристич! — сказал взволнованно. — Никогда тебя не забуду!
Кристич по-казацки с места вскочил в седло, гикнул, ускакал.
До Могилева они добирались около десяти дней, и все это время Кристич заботился о нем, как о брате. Перевязывал ему раны, следил, чтобы его получше кормили, на ночлег устраивал поудобнее и потеплее. Его стараниями Сухинов оправился и окреп. Он испытывал к Кристичу благодарность, но по-прежнему относился к нему настороженно. Слитком разные они были люди. Он понимал, что почтительность неуравновешенного Кристича в любой момент могла обернуться неприязнью. Это был человек, донельзя исковерканный жизнью, поганой службой, он не отвечал за свои поступки. Однако ничего не случилось, и в Могилеве они распрощались дружески, причем Кристич напоследок чуть ли не силой пытался навязать ему десять рублей серебром, говоря почему-то, что это их общие с Сухиновым деньги. Сухинов от денег решительно отказался, а потом жалел об этом.
В Могилеве уже полным ходом шло следствие по делу заговорщиков из Черниговского полка. Военно-судебная комиссия под председательством генерал-майора Набокова занималась, в частности, делами офицеров Черниговского полка. Их тут было тринадцать. Каждый подследственный содержался в отдельной комнате под надежной охраной. Четверо из них — Соловьев, Сухинов, Быстрицкий и Мозалевский — все время следствия и суда были в оковах. Их поместили в сырых кельях иезуитского монастыря. Допросы, очные ставки, издевательства тюремщиков, худое питание, болезни довели всех четверых до изнеможения. Соловьев больше всего опасался за свой рассудок, Быстрицкий часто плакал и на вопросы следователей отвечал торопливо и невпопад, Мозалевского трепала лихорадка, и все происходящее с ним он не вполне осознавал, ему казалось, что все это не более чем кошмарный сон. Сухинов копил в себе ненависть, упиваясь ею, как вином. На допросах он прикидывался совершенным простачком, невинно страдающим, пространно и с охотой, с живописными подробностями рассказывал о том, что следователям и без него было хорошо известно; в иных случаях изображал испуганное недоумение и по-солдатски бубнил: «Никак не могу знать!» Дни и ночи слились для них в одну ровную линию, они потеряли им счет. Наконец, на закрытом заседании, суд вынес свои приговоры. Соловьеву и Сухинову была оказана высокая честь. По степени вины в первоначальном вердикте их приравняли к пятерым декабристам, которые 13 июля будут повешены на кронверке Петропавловской крепости. «…Обоих их, барона Соловьева и Сухинова, как клятвопреступников, возмутителей, бунтовщиков, изменников и оскорбителей высочайшей власти, по силе уложения главы 2-й статьи 1 и воинских 19-го, 20-го, 127 и 135 артикулов — четвертовать».