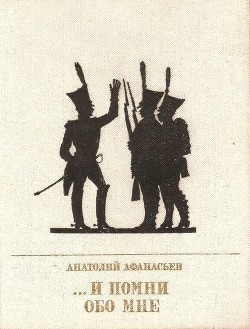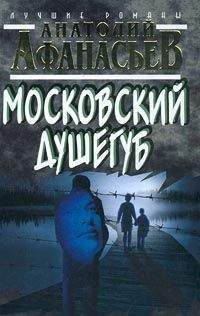— Не волен в своей вине! — дико взмолился Кристич. — Пощадите, христа ради!
— А будешь надо мной измываться?! — спросил Сухинов.
Кристич, стоя на коленях и глядя в ужасное, со сведенными к переносице бровями лицо Сухинова, неожиданно почувствовал себя счастливым и умиротворенным. Более того, он ощутил непреодолимое желание обнять этого странного человека, прижаться к его груди и заплакать, и высказать ему, как тягостно и страшно болит временами его собственное сердце. Он вдруг понял, что именно Сухинов, именно этот злодей и бунтовщик способен его понять и ободрить.
— Поверьте, Сухинов, — сказал он низким голосом, как бы из живота, — ни одним словом я больше не посмею вас оскорбить, ни одним поступком не обижу. А все, что в моих силах, сделаю для вас!
Толстенький полицейский, невольный свидетель этой немыслимой и непонятной ему сцены, бочком, бочком выпростался наконец за дверь. Сухинов сел за стол, налил себе водки и жадно выпил. Кристич, кряхтя, взгромоздился напротив.
— Да вы кушайте, кушайте, ради бога! — он сам подкладывал в тарелку Сухинова осетрины, холодца.
Сухинов вдруг на несколько минут почувствовал себя почти хорошо, свободно; даже оковы, мешающие брать еду, гнусно, глухо постукивающие о стол при каждом движении, перестал замечать.
— Чудной вы человек, — заметил он, налегая на закуски. — То ведете себя, как последняя скотина, а то унижаетесь, как испуганная девица. Неужели вы так боитесь умереть? Кто вы такой, Кристич?
— Чиновничья душа! — хмыкнул Кристич, успокаиваясь. — Для вас я, наверное, безликое пятно в серой массе безликих полицейских харь. Но не судите поспешно, поручик. Сущность человека не в звании и не в должности. Это все не стоящие внимания побрякушки. Сущность человека неведома ему самому, она — в страдании, которое насылает бог.
Сухинов опустошил тарелку.
— Вот вы и давеча меня спрашивали что-то о боге и сейчас все к нему сводите. Вы что, Кристич, в попы собираетесь податься?
— Я понимаю, вам могут показаться нелепыми мои откровения… Нет, в попы я не собираюсь, не сподобился. Не дал мне господь твердой и сильной веры, признаюсь. И об этом жалею. Без веры я брожу впотьмах. Много зла могу сослепу сделать, но могу случайно и доброе дело свершить. Заметьте, случайно… Тем, кто верит, бояться нечего. Они всегда правы. Только ведь иной раз легко спутать веление бога с наущением дьявола.
Сухинов откинулся к стене, тяжело дышал. От выпитой водки и сытной пищи у него пуще закружилась голова. Путаная речь пристава его раздражала. О Кристиче он думал, что тот, видно, не одну душу загубил, а теперь шарахается из стороны в сторону, совесть его мучит. Он не жалел о своей недавней вспышке, хотя она могла накликать на него новые беды. А если бы он и впрямь убил Кристича? Бог, о котором с такой охотой толкует этот полупьяный чиновник, не допустил этого, в последнее мгновение удержал карающую руку. В Сухинове опять все задремало: воля, желания, мысли. С момента ареста од был погружен в эту дрему наяву — все видел, все воспринимал, но ничто его не задевало, не трогало. Это было сладкое, дивное состояние, кабы еще не колотье в ранах, да не свинцовый озноб, да не унизительная тяжесть железа на теле. Кристич глотал рюмку за рюмкой, уже не закусывая. «Сейчас он совсем опьянеет и, скорее всего, начнет буйствовать», — безразлично подумал Сухинов.
— За вашу поимку мне дадут годовой оклад, — говорил Кристич, с обидой заглядывая в пустую рюмку. — Вы думаете, мне нужны эти деньги? Мне на деньги — тьфу! У меня их никогда не было и не будет. Зачем же я за вами гонялся? Скажете, выполнял приказ? Не только. Азарт охотника. Это у меня в крови. Люблю загнать человека в угол, довести до крайности и увидеть, как он ничтожен и мерзок. Могучие люди, поверьте мне, огрызаются, дерутся, а прижмешь покрепче, надавить — пищат, ползают, смотреть тошно. Вот каков человек, создание божье, — когда в силе, бодр и непоколебим, кажется, подойти к нему опасно, а в слабости гадок, как крыса. Вы не такой, и поэтому я склоняюсь перед вами. Поэтому мне ж любопытно, что в вас сидит, что поддерживает — вера или безумие?
— А вас что поддерживает? — спросил Сухинов, чтобы продлить разговор и еще немного побыть в тепле истоме.
— У меня безумие наследственное. У нас в роду и удавленники и бабы-кликуши. Я тоже, скорее всего, кончу плохо. Я этих удавленников ох как понимаю! Иной раз такое накатит — легче в петлю, чем терпеть. Объяснить ничего не могу. Ум мой темен, необразован. Встретить бы сведущего человека, поговорить. Да где его встретишь., И потом — отношение к нашему брату особое. Смотрят, как на деревянных, как на зверей. Да мы и есть большей частью звери. Хватаем, вяжем, допросы снимаем. Всех обязаны подозревать. Я и то в себе замечаю, встретишь, бывает, знакомого, хороший человек, выпьешь с ним, а в душе скребется — э, братец, человек-то ты отменный и говоришь складно, а не держишь ли ножичек за спиной, не помышляешь ли о чем недозволенном? Так бы взял его, дружка этого, за ноги и повесил вниз головой. Аж затрясет всего от наваждения окаянного… Ну скажите, разве не безумие?
— Мне поспать бы… и лекаря, — осторожно напомнил Сухинов. Кристич повел на него пьяным взором, в глазах его полыхнула злоба, но тут же потухла. Он устало махнул рукой.
— Конечно, вам сейчас не до меня… Эй, хозяин! Подать сюда хозяина!
Прибежавшему на зов трактирщику приказал освободить лучшую комнату для содержания важного государственного преступника. Напуганный хозяин провел их в полутемный чулан, где стояла железная кровать, застеленная пестрым лоскутным одеялом. Он поклялся, что это и есть его лучшая комната. Кристич помог поручику лечь, заботливо укутал его одеялом, подбил подушку под головой.
— Вы отдохните, а я вскорости приведу лекаря!
Сухинов слышал, как заперли дверь, ему почудился женский вскрик, и тут же он погрузился в глубокую дурманную пучину. Перед сомкнутыми глазами образовалась плотная багровая стена, и он пошел сквозь нее, раздвигая багровую муть ладонями, коленями, пытаясь вырваться на свежий воздух, на простор, но выхода не было, стена расслоилась, висла хлопьями на лице, на плечах, опутывала ноги, липким сладковато-горьким тестом начала лезть в уши и в рот, поползла к легким, в желудок. Сухинов хотел позвать на помощь, но не смог открыть слипшиеся губы. Ужас охватил его. Он понял, что это конец. Но не смирился и из последних сил продирался, ногтями срывал с тела алые сгустки, засунул пальцы в рот и оттуда выковыривал клейкую массу… Возвращение Кристича вывело его из бреда, разбудило.
Лекаря Кристич не привел, зато принес все необходимое для перевязки: чистые бинты, склянку с йодом и баночку темного стекла с мазью, про которую он сказал, что это чудодейственный бальзам.
— Это средство изготовляет один еврей и продает его за бешеные деньги, — пояснил Кристич. — Этот бальзам мертвого поставит на ноги, не сомневайся.
Он сам взялся за перевязку и проделал все так ловко, сноровисто и аккуратно, как будто только тем и занимался всю жизнь, что пестовал раненых. При этом он без умолку болтал. Сухинов проникся к нему доверием и симпатией.
— А ты вроде неплохой человек, Кристич.
— О, ты меня не знаешь! — скалился в радостной ухмылке пристав. — Кристич может голову оторвать, как грушу, но кому он друг, тот забот не ведает. А тебя я полюбил, Сухинов! Не знаю за что, а полюбил. Может, за удаль твою. По службе должен я тебя ненавидеть и притеснять, да вот ничего не могу с собой поделать. Нравится мне на тебя глядеть.
Кристич ушел, и больше Сухинова до утра никто не беспокоил. Проснувшись, он почувствовал себя почти здоровым. То ли бальзам сделал свое дело, то ли отдых сам по себе восстановил силы. Кристич с утра был хмур и молчалив, но к Сухинову нисколько не переменился. Они вместе позавтракали, что было вопиющим нарушением устава со стороны Кристича, но это его мало беспокоило.
— Коли донесут, так уж хоть по правде. Только я доносчику не позавидую.