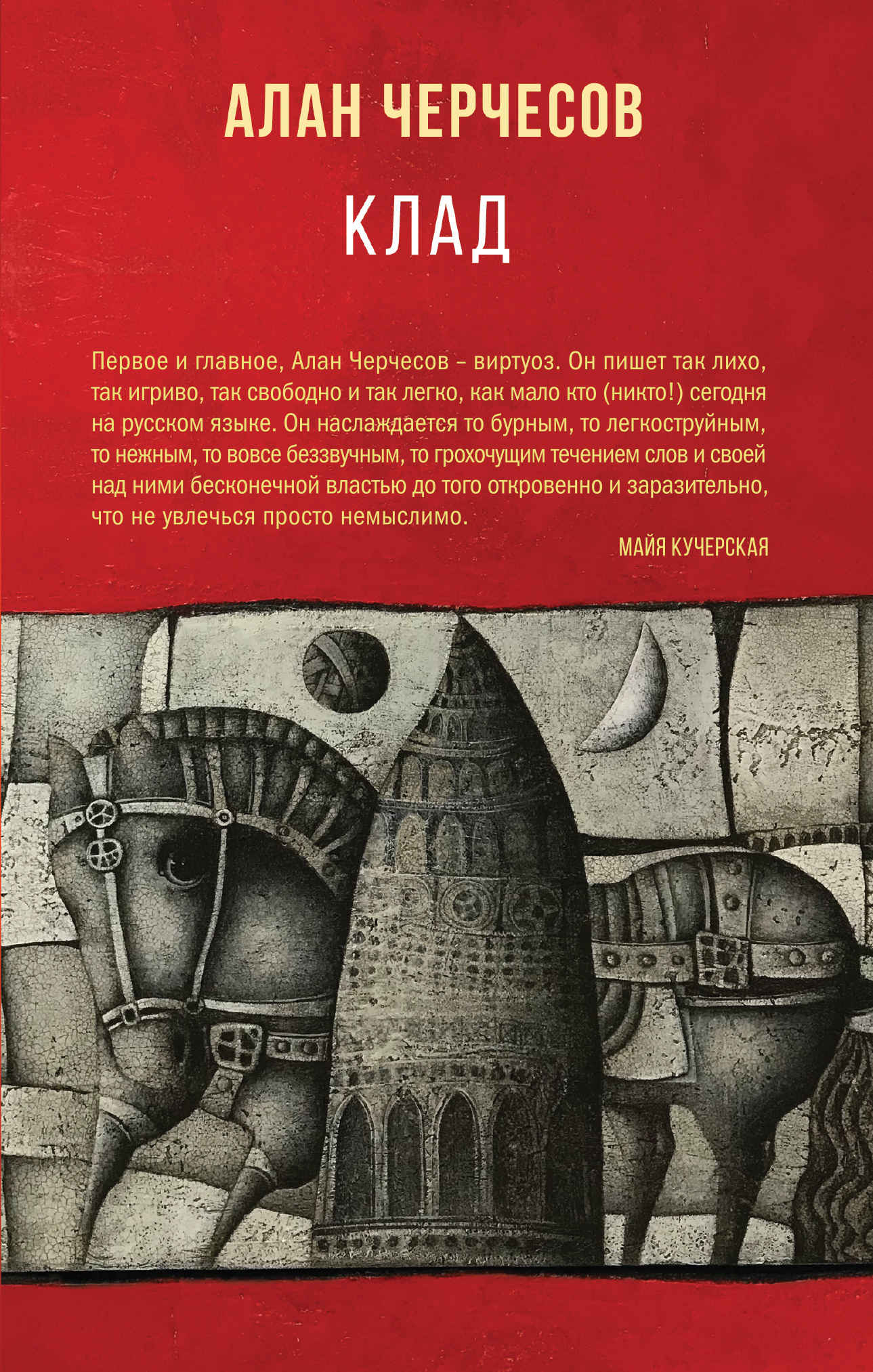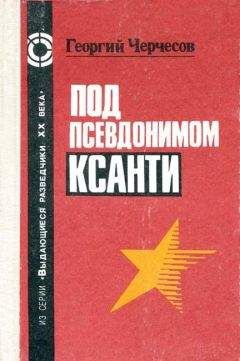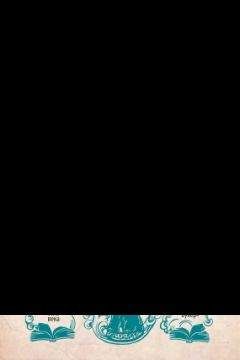напал волкодав, но напоролся глазами на грабли аккурат у сарайной двери. На фронте из целого взвода уцелел только дед твой да пулемет, которым он покосил, точно срезал колосья серпом, целую прорву фашистов. Три года под пулями фрицев – и ни единой царапины. И вот еще что: никогда не болел. И протянул бы еще сотню лет, не подавись вчера хохотом. Запить аракой на сей раз не успел, да и затрещину дать было некому. Не судьба, а насмешка над теми, кому не до смеха.
Отец говорил о себе. Как и Бзго, смеяться он не любил. Правда, молчание его было не перекличкой с заветными далями, не манящим уютом души, а защитой, железным забралом, из-под которого он наблюдал за враждебно смыкавшим ряды наступательным миром, только и ждавшим предлога для штурма его одиночества. Молчать рядом с ним было жутко – будто заглядывать в пропасть на лютом, промозглом ветру.
Отца своего Марат избегал и боялся. Точнее, боялся не столько его, сколько тенью стоявшей за ним безнадежности. Того, что нет ничего честнее и хуже нее – вот чего он боялся.
Отец понимал все на свете, причем на лету. Суждения его не знали ошибок, как и не ведали жалости. Вынося приговор, он не делал уступок ни болезни, ни возрасту. Когда мать заболела, он снял с депозита все деньги, купил два билета в круиз и сказал:
– На поездку нужны три недели. Отлежаться успеешь потом. Собери чемодан.
На работе предупредил, что вернется не раньше зимы:
– У меня умирает жена. Врач дает пару месяцев, так что октябрь-ноябрь я занят. Увидимся в декабре.
Марату и сестрам велел:
– Наревитесь, пока мы в отъезде, чтоб не осталось в глазах ни слезинки. Мать у вас умирает – не тонет.
Казалось, смягчи он удар, навсегда опозорится. Мать его прямоту одобряла, как одобряет любые погоды суеверный крестьянин, что, смиренно снося зной и дождь, заклинает подспудно наглядным своим, раболепным терпением небо – не обрушить на всходы погибель из смерча и града.
Мать никогда не бывала сама по себе, а постоянно трудилась придатком отца, его самой кроткой, безропотной частью, вечным «да», «хорошо» и «конечно». За тридцать лет брака оба сроднились настолько, что, не сговариваясь, могли бы заполнить одними и теми же числами два лотерейных билета. Только мать проиграла бы, а отец – тот бы выиграл. И, пожалуй, тут же забыл бы о выигрыше. Кто-кто, а он знал: по-настоящему важен бывает лишь проигрыш.
Отец не умел видеть снов – совсем, словно жил на треть жизни меньше.
Мать в свои сны убегала, чтобы пожить своей жизнью хотя бы на треть.
Отец не особо верил в друзей, хоть их у него было много: людей привлекает в других суверенность, которой сами они лишены. Ему доверяли – как всякому равнодушию. В нем ощущали подпольную силу и тянулись к ней, как к колдовству. Он властвовал в дружбе, как властвовал в доме, но детей в друзья не пускал:
– Кто растит в сыне друга, получает в итоге предателя.
Умер он прежде жены, бросившись за борт круизного лайнера, чтобы спасти какую-то псину. А может, он просто решился покинуть их раньше, чем бросит его самого его самая лучшая, кроткая, ценная – то ли часть, то ли сущность.
Он утонул, не оставив долгов и предателей. Даже среди друзей и детей.
Он умер, и Марат осознал вдруг, что любил его больше, чем деда.
Потом ушла мать – доживать свои сны.
Отныне у жизни могло быть все только плохо. Все ее «хорошо» уместилось в щепотку легенд: про палец, про чих и про винт корабля, изрубивший на корм для рыбешек отважную душу.
Хоронили отца точно так же, как хоронили впервые деда Марата: папаха, костюм и сорочка без признаков тела.
Вот когда посмеялся и он, подумал Марат. И подумал: прадед умер от смеха, но то – с непривычки. Дед захлебнулся от хохота – как перегретый мотор. Отец принял смерть как-то уж слишком нелепо, всерьез, но, похоже, смеялся последним.
Каждый из них был примером. Прадед – того, как жить, чтобы выжить. Дед – как чихать, чтобы жить не тужить, отец – как из жизни внезапно исчезнуть, оставив судьбу свою с носом.
Всем троим было впору завидовать.
Постепенно Марат перестал видеть сны. Сперва они сделались быстрыми, рваными, куцыми – не поднимешь и не соберешь. После – глухими, упрямыми и неуклюжими. Они утыкались в него мокрой мордой, сопели угрюмо и подыхали, навалившись тушей на грудь, точно выбросившиеся на сушу маленькие киты. Когда они перемерли, Марат с облегчением вздохнул и стал увлеченно учиться обрядам частичного умирания – каждые сутки на треть. Или же третью себя? Разница невелика, пришел к заключению он и задался вопросом: может, это и есть наша цель – не жить все больше и больше, не жить все честнее, покорнее, чем давалось удачливым предкам? Может быть, наша жизнь – всего только крошечный палец в ране от жизни чужой, разнообразно, давно и сполна прожитой другими? Мертвый отрезанный палец в хлещущей яростью ране, на которую Богу не хватило терпения (или стыда), чтобы заткнуть подходящим тампоном и перетянуть жгутом. Отрезанный палец с безымянного трупа истории – вот мы кто. Те, на кого не хватило легенды. Те, кто дышит отравой сомнений. Те, кто смотрит войну и беду уже только по телевизору – даже ту, что стучится к нам в дом, когда дома нас нету. Те, кто смеется – навзрыд. Те, кто лечит себя от тревог тавтологией действий и слов, засоряя повторами будни и глотая зевотой их смысл.
Странное дело, но он перестал видеть сны, чтобы видеть сплошные кошмары. И главным кошмаром была для него мысль о том, что он умирает всего лишь на треть.
Выходит, в остатке всегда остается две трети. Две трети на чистую, честную жизнь.
Такой вот расклад. Такой вот расклад, вашу мать!..
Палец в ране легонько крутнулся, выдавив капельку крови.
Марат посмотрел на ладонь. Кровь была настоящей. Как, впрочем, и боль. Как и, мать вашу, жизнь…
Пловдив, 1 июня 2014
Обычно горы молчали, так что беда подступала внезапно. И тогда людям приходилось заново пробивать тропы, разбирая завалы из камней, снега и грязной земли. Случалось, оттуда доставали изувеченные останки животных и вчерашних путников. Часто их все же опознавали, и чей-то род понимал, что стал беднее.
Потом горы опять