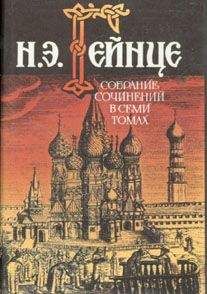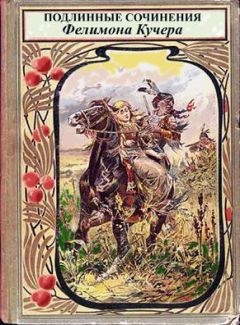На другой день на бивуак стали съезжаться со всех сторон корреспонденты и военные агенты.
Эти господа съезжались обыкновенно перед делом, как вороны, ожидая результатов боя, чтобы сообщить во все пункты земного шара о его подробностях и исходе.
В числе корреспондентов были знаменитые Станлей и Мак-Гахан и русские: В. И. Немирович-Данченко и присяжный поверенный Утин.
Последний был корреспондент-любитель и приехал верхом на прекрасном вороном коне.
Перестрелка русских батарей с турецкими редутами шла очень деятельно, турецкие батареи отвечали исправно, хотя и не имели орудий большого калибра, но их орудия были дальнобойные и гранаты долетали до русских войск.
Если бы все их снаряды разрывались, то дело было бы плохо, но, к счастью русских, англичане продали своим друзьям-туркам старые, залежавшиеся снаряды, которые большею частью не разрывались, а закапывались в землю.
Наконец настало знаменитое 30 августа.
Приказано было наступать по всей линии. Все ординарцы были разосланы для наблюдения по частям.
Николай Герасимович был командирован в 1-ю бригаду 5-й пехотной дивизии, которая должна была штурмовать вместе с румынскими войсками Гривицкий редут.
По диспозиции начать предстояло румынам в 4 часа дня, а русские должны были их поддерживать.
Для подготовки штурма русская артиллерия выехала одновременно с румынской на позицию и открыла огонь по редуту.
Румынские войска два раза принимались штурмовать и оба раза были отбиты.
Пришла очередь двинуться русским.
Савин в это время сидел с командиром архангелогородского полка флигель-адъютантом полковником Шлитер.
Это был храбрый боевой офицер, георгиевский кавалер, прослуживший около десяти лет на Кавказе, отличившийся там и переведенный за это отличие в гвардию в Преображенский полк.
Он только что принял архангелогородский полк, который в делах под Никополем и Плевной потерял уже двух командиров, большую часть своих офицеров и две трети нижних чинов.
Полковник Шлитер, как старый боевой офицер, предвидел всю трудность предстоящего дела и был скучен.
Может быть, впрочем, это было предчувствие.
Когда наступила роковая минута двинуться вперед, он встал, осенил себя крестным знамением и громким голосом скомандовал полку:
— Вперед!
Настала и для Савина желанная минута броситься в бой.
Он пошел тоже впереди атакующих колонн.
Началась стрельба залпами и перебежка вперед.
Турки стреляли без умолку, их пули жужжали непрерывным роем, вырывая из русского строя жертву за жертвой, но бригада бодро подвигалась вперед.
Отдать отчет в ощущениях, которые какой-то кровавой волной охватили Николая Герасимовича, он не мог положительно ни тогда, ни после.
Он помнит только, как, подбегая к главному редуту, он увидел, что шедший рядом с ним полковник Шлитер зашатался и упал.
Савин хотел поддержать его, но в это время сам почувствовал оглушительный удар в голову и потерял сознание.
Очнулся он через три дня на перевязочном пункте.
Все это время он был без памяти.
Подняться Николай Герасимович был не в силах и почти не мог шевельнуться.
Левая рука была в повязке и привязана к койке.
С головы только что сняли компресс.
— Что со мной? Где я? Чем кончилось дело? — слабым голосом спросил он у стоявшей около его койки сестры милосердия, стройной блондинки, с добрыми светлыми глазами.
— На перевязочном пункте, — отвечала сестра, — вы были контужены в голову и впали в беспамятство… Кроме того, у вас перебита левая рука выше локтя пулей…
— А дело, дело… — настаивал Савин.
— Гривицкий редут взят.
— Ну, слава Богу… А полковник?
— Полковник Шлитер убит.
Николаю Герасимовичу пришлось пробыть на перевязочном пункте еще несколько дней, после чего он с другими ранеными отправился в Россию.
До Бухареста их везли на волах и лошадях, а в Бухаресте поместили в прекрасном вагоне поезда Красного Креста, в котором раненые и помчались на родину.
Савин был отправлен в Тулу, где и был помещен в госпитале Красного Креста и где через два месяца настолько поправился, что мог ехать в деревню.
В Серединском его ожидали тяжелые дни.
Его мать Фанни Михайловна лежала на одре смерти, а Герасим Сергеевич ходил как убитый.
В доме собралась вся семья, оба брата Николая Герасимовича и Зина, приехавшая из Петербурга, где она только что было начала готовиться к экзамену на женские медицинские курсы.
Ее, по желанию больной, вызвали телеграммой.
Болезнь Фанни Михайловны развилась неожиданно быстро. Здоровая, почти никогда не хворавшая, она вдруг слегла как подкошенная, совершенно неожиданно для мужа и окружающих.
Началом болезни было нервное расстройство, отразившееся на всем организме.
Последнее письмо от сына ею было получено 30 августа. Сын писал, что на это число назначен штурм Плевны.
Весть о том, что русские войска наконец сломили эту турецкую твердыню, дошла вскоре до России, как донеслась и весть о том, сколько жертв стоила эта победа.
Не получая писем от сына, Фанни Михайловна не осушала день и ночь глаз, вполне уверенная, что он убит.
Слова утешения не действовали на нее, и она положительно слабела день ото дня.
Пришедшее почти через месяц письмо, задержанное, видимо, отправкой с перевязочного пункта, о том, что Николай Герасимович ранен и вместе с другими серьезно раненными отправляется в Россию, писанное по просьбе Савина сестрой милосердия, почти совершенно не успокоило несчастную мать.
— Это все ваши шутки, — твердила она, — это одно желание скрыть от меня истину, отдалить роковое известие… Я знаю, я сердцем чувствую, что он убит…
Наконец Фанни Михайловна окончательно слегла, простудившись при частых поездках в церковь, на каменном полу которой она буквально лежала ничком по целым часам.
Организм был окончательно подорван нервным расстройством и простудой.
Даже пришедшее известие, что сын ее жив и здоров, не могло уже поднять ее со смертного одра.
Через неделю после приезда Николая Герасимовича в Серединское, Фанни Михайловна испустила последний вздох на его руках.
Он не отходил ни на шаг от ее постели.
Герасим Сергеевич, после похорон любимой жены, не пожелал остаться в Серединском, которое по его распределению имений принадлежало его сыну Николаю, и приказал увезти себя в Москву.
Его именно увезли, почти в бессознательном состоянии от постигшего его горя.
Братья разъехались, уехала и Зина в Петербург.
Она было предложила ехать с собою и Николаю Герасимовичу, но при слове Петербург его лицо исказилось таким выражением невыносимого страдания, что Зиновия Николаевна даже не окончила начатую фразу.
«Как он до сих пор любит ее», — промелькнуло в ее уме не без некоторой горечи.
Николай Герасимович не остался однако тоже в Серединском. Поручив управление имением старосте, он уехал в Тулу, где за время пребывания в госпитале сделал несколько приятных знакомств.
Вскоре верстах в десяти от Тулы он купил себе имение «Руднево», очень живописно расположенное, с прекрасным, почти новым барским домом, садом и оранжереями, а главное, великолепными местами для охоты, как на дичь, так и на красного зверя.
Выписав из своих других имений лучших лошадей и лучших собак, он зажил в деревенской тиши хлебосольным помещиком, радушным хозяином, к которому охотно собирались как соседи-помещики, так и городские гости.
В Туле даже начали поговаривать, что в Рудневе недостает только молодой хозяйки.
Тульские маменьки и дочки особенно сильно были заинтересованы этим вопросом.
Прошло около трех лет, но мечты и надежды тульских маменек и дочек относительно Николая Герасимовича не осуществлялись.
Он, казалось, не замечал рассыпаемых перед ним чар прекрасной половиной Тульской губернии, ни красноречивых улыбок, ни не менее красноречивых томных вздохов.
Видимо, молодой Савин решился остаться холостяком, и это решение было твердо и бесповоротно.
«Это просто ненавистник женщин!» — решили хором тульские маменьки, не будучи в состоянии иначе объяснить себе неудачу романической осады их дочек, из которых каждая, в глазах своей матери, была перлом красоты и невинности.
«Бесчувственный идол! — твердили дочки. — Статуй каменный… У него нет сердца… Это какой-то изверг…»
«У него прехорошенькая ключница!» — загадочно говорили мужья и отцы.
В тоне этого замечания слышалось не то осуждение, не то зависть.
Черноглазая двадцатитрехлетняя Настя, исполнявшая в имении Николая Герасимовича Савина должность экономки и щеголявшая нарядными платьями, действительно была тем аппетитным кусочком, на который обыкновенно мужчины смотрят, по меткому выражению русского народа, как коты на сало.