После столь волнительных переживаний мельница обыкновенной политической карьеры уже казалась ему непривлекательной. Какая может быть борьба за квесторство для Помпея Великого? Оказав помощь Катулу в подавлении вооруженного мятежа, последовавшего после смерти Суллы, он вновь ответил отказом на предложение распустить свои легионы. И вновь это было сделано не ради ниспровержения существующих порядков, а просто потому, что ему было слишком приятно быть полководцем. Вместо этого Помпеи потребовал, чтобы его отослали в Испанию. В провинции еще было полным-полно марианских мятежников, и нельзя сказать, что, утверждая кандидатуру Помпея, Сенат просто поддался на шантаж. Война с мятежниками особой славы не сулила, множество опасностей сочеталось с минимумом возможных доходов. Катул и его коллеги были рады выпроводить Помпея из города.
Безусловно, и Красе надеялся на неудачу своего юного соперника. Однако Помпеи вновь зарекомендовал себя «несносным счастливцем». Хотя кампания действительно оказалась жестокой, армии мятежников покорились одна за другой. Поначалу иронически воспринявший титулование Помпея Великим, Красе скоро стал более серьезно относиться к заслугам своего противника. В 73 г. до Р.Х., когда Красе стал претором, Помпеи гасил последние угольки восстания в Испании и обеспечивал себе поддержку провинции. Он обзавелся собственной клиентской базой в Испании, давшей Крассу его первую армию. Предстояло его скорое возвращение в Рим — в ореоле славы, во главе армии закаленных ветеранов. Вне сомнения, он потребует второй триумф. В конце концов, как можно сказать это заранее?
Столкнувшись с угрозой в лице Помпея, Красе явным образом пересмотрел собственную стратегию. При всей колоссальной величине его собственного авторитета, он наполовину пребывал в тени. Однако наступило время общественного одобрения. Красе отнюдь не являлся Цетегом. Он в совершенстве понимал, что власть без славы всегда останется ограниченной, особенно при конкуренции с таким соперником, как Помпеи. Ему нужна была собственная, скорая и ошеломительная победа. Но где? И над кем? Подходящих противников просто не было.
И вдруг возможность представилась — буквально как гром с ясного неба.
Летом 73 года произошло восстание в одной из гладиаторских школ Кампаньи. Подобно моллюскам и роскоши, такие школы успели стать большим бизнесом для этого региона. Профессия гладиатора тут во многом была доморощенной. Задолго до появления на здешней сцене Рима, гробницы Кампаньи и Самния обнаруживают свидетельства поединков между вооруженными воинами, проводившихся в честь духов вечно алчущих мертвецов. По мере того как, благодаря растущему интересу римлянин, сии кровопролитные обряды стали приобретать коммерческий характер, гладиаторы продолжали одеваться в самнитском стиле, добавляли только шлемы с полями и нескладными торчащими султанами. С течением времени, когда независимость самнитов канула в Лету, и облик этих бойцов стал казаться еще более экзотическим — как животных, сохраняемых от вымирания в зоопарке.
С точки зрения самих римлян, тот душок «иностранщины», которым припахивали гладиаторские бои, всегда составлял важную часть их привлекательности. Войны Республики уходили все дальше и дальше от Италии, поэтому возникли опасения в том, что воинственный характер народа придет в упадок. В 105 г. до Р.Х. консулы, впервые устроившие в Риме публичные бесплатные игры, делали это для того, чтобы толпа почувствовала вкус к сражениям с варварами. Потому-то гладиаторы никогда не были вооружены, как легионеры, но всегда в гротескной форме, изображали врагов Республики — если не самнитов, то фракийцев или галлов. И все же этот свирепый спектакль, разыгранный на Форуме, в самом сердце Рима, был встречен с восхищением, отвращением и презрением. Римская верхушка могла сколько угодно изображать, что игры проводятся ради блага плебса, однако проявленная гладиаторами отвага могла поразить кого угодно. «Даже сраженными, а не только сражаясь и стоя, они никогда не позорят себя, — восхищался умудренный науками Цицерон. — А представьте себе лежащего на земле гладиатора, когда шею его сворачивают, после того как ему было приказано вытянуть ее для смертного удара?»[114] И этот жест побежденного чужеземного раба воплощал в себе все, чем так восхищались римляне.
Пусть отражение могло оказаться искаженным, но гладиатор ставил зеркало перед собравшейся толпой. Он позволял римлянам увидеть последствия собственного опьянения славой в ее самой грубой, самой крайней и низменной форме. Различие между борющимся за консульство сенатором и сражающимся за свою жизнь гладиатором было только количественным, но не качественным. Римлянин был рожден, чтобы наслаждаться обоими спектаклями. В обществе, подобном римскому, увлечение творящимся на арене насилием было вполне естественным. И чем более пышным было кровавое представление, тем более приходилось оно по душе римлянам. Однако бойня служила и серьезным предупреждением. Гладиаторские поединки указывали на то, что может случиться, если духу свободной конкуренции будет предоставлена свобода, если люди начнут сражаться друг с другом не как римляне, связанные обычаями и долгом, но как дикари. Кровь проливается на песок, трупы цепляют крючьями. Если рухнет Республика, как это едва не случилось в годы гражданской войны, такой станет участь каждого, будь ты раб или гражданин.
В этом крылась другая причина того, что школы гладиаторов концентрировались в Кампанье, на безопасном удалении от Рима. Граждане его чуяли дикость в сердцах гладиаторов и опасались, что она может переселиться в их собственные сердца. Летом 73 года, хотя число беглецов было явно меньше сотни, римляне выслали на их поимку претора с войском в три тысячи человек. Беглецы укрылись на склонах Везувия, и римляне решили заморить их голодом. Однако гладиаторы превосходно знали, где находится слабое место противника. Обнаружив, что склоны вулкана заросли дикими лианами, они сплели из них лестницы, спустились по обрыву и напали на римлян с тыла. Лагерь был захвачен, легионеры бежали. К гладиаторам немедленно начали присоединяться новые беглецы. Ножные кандалы плавили и ковали из них мечи. Наловив одичавших лошадей и обучив их, рабы сформировали собственную конницу. Рассыпавшись по Кампанье, они начали грабить регион, только что начавший оправляться после опустошений Суллы. Нола была вновь осаждена и ограблена. Разбиты были и две новые присланные римлянами армии. Был взят штурмом лагерь еще одного претора. Захваченными оказались и его фасции, и даже конь.
Еще недавно сшитый на «живую нитку» партизанский отряд превращался в огромную и дисциплинированную армию численностью примерно в 120 000 человек. Честь организатора принадлежала предводителю бежавшей первой группы гладиаторов, фракийцу, носившему имя Спартак. Перед тем как попасть в рабы он служил римлянам в качестве наемника и соединял в себе силу гладиатора с мудростью и проницательностью. Понимая, что если мятежники останутся в Италии, разъяренные господа рано или поздно уничтожат их, весной 72 года он повел свое войско к Альпам. Их преследовал только что избранный в консулы Геллий Публикола, юморист, чьи шутки в адрес афинских философов так развлекали его друзей много лет тому назад. Но прежде чем он успел вступить в сражение со Спартаком, рабы напали на стоявшее при границе римское войско и рассеяли его. Ворота к свободе через Альпы были распахнуты настежь. Однако рабы отказались воспользоваться им. Вместо этого, отбросив попавшееся навстречу войско Геллия, они отправились по собственным следам на юг, в самую сердцевину земли своих недавних господ, туда, откуда только что пытались бежать.
Подобный оборот событий ошарашил римлян. Они объясняли этот шаг излишней самоуверенностью: «Рабы оказались глупы и по-дурацки слишком доверились огромному числу всякого люда, присоединявшегося к их войску».[115] На деле мятежникам было сложно не ощутить головокружения от числа рабов, находившихся тогда в Италии. Люди составляли отнюдь не самую малую часть собственности, награбленной Республикой в ее завоевательных войнах. Установленный римской властью единый рынок позволял перемещать пленников по всему Средиземноморью столь же легко, как и любые другие товары, в результате чего работорговля пережила истинный бум, беспрецедентным образом перемещая население. Сотни тысяч, быть может миллионы, людей были сорваны с мест своего обитания и доставлены в центр империи — трудиться на своих новых господ. Рабом мог обзавестись даже беднейший из граждан. В богатых домах избыток рабочей силы заставлял рабовладельцев выдумывать все более экзотические обязанности для своих рабов — сметать пыль с портретных бюстов, писать приглашения или чистить пурпурные одежды. Конечно же, такие обязанности следует относить к числу крайне редких и изысканных. Занятия большинства рабов были намного утомительнее. В особенности это относилось к сельской местности, где условия были хуже всего. Рабов покупали целыми партиями, клеймили и забивали в оковы, а потом выгоняли на поле работать с рассвета до заката. На ночь их запирали в огромных, заполненных людьми бараках. Раб не имел права ни на малейшую долю человеческого достоинства или уединения. Кормили их плохо — лишь бы не умерли от голода. Утомление «излечивалось» с помощью кнута, а непокорность требовала вмешательства частных подрядчиков, специализировавшихся на пытках — а иногда и на казнях, — «зарвавшихся» рабов. Искалеченных или преждевременно состарившихся просто выбрасывали, словно заболевший и забитый скот или разбитый винный сосуд. Дальнейшая их участь, живы они или умерли от голода, нисколько не волновала господ. В конце концов, как неустанно твердили читателям римские знатоки-агрономы, незачем тратить деньги на бесполезные орудия.
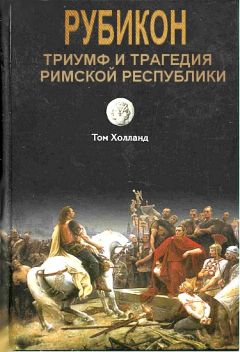
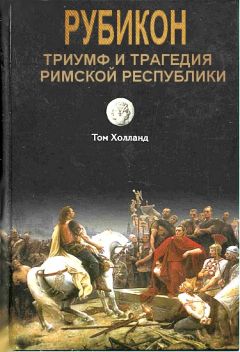


![Дана Белл - Стальная красота [ любительский перевод]](https://cdn.my-library.info/books/151362/151362.jpg)
