И такая эксплуатация пронизывала все, что было самым благородным в Республике, — ее культуру гражданства, страсть к свободе, страх перед позором и бесчестьем. Дело здесь не только в том, что досуг, позволявший гражданину посвящать себя Республике, был рожден принудительным трудом других людей. «Прибыли не получишь, не причинив ущерба другому»[116] — такая точка зрения была общепризнанной среди римлян. Всякое положение относительно. Какую цену может иметь свобода в мире, где все свободны? Даже самый беднейший из граждан может чувствовать неизмеримое превосходство над находящимся в лучшем из возможных для него положений рабом. Смерть предпочтительна жизни, лишенной свободы: славным доказательством этого положения служит вся история Республики. Если человек позволил поработить себя, значит он заслуживает этой участи. Такая жестокая логика не позволяла римлянам даже задумываться о жестокостях, которые приходилось переносить рабам, не говоря уже о правомерности самого рабства.
Логику эту признавали и сами рабы. Никто и никогда не пытался оспорить иерархию воли и неволи, речь могла идти только о собственном положении внутри нее. Мятежники стремились не уничтожить рабство как таковое, а добиться привилегий своих прежних господ. Поэтому они даже заставляли своих римских пленников сражаться в качестве гладиаторов: «Те, кто прежде был зрелищем, стали зрителями».[117] Похоже, что только сам Спартак сражался за подлинный идеал. Единственный среди вождей восставших рабов в Древнем мире, он пытался учредить некую форму эгалитаризма среди своих последователей, запрещая им пользоваться золотом и серебром, требуя распределять добычу на равной основе. Если это была попытка достижения Утопии, то она провалилась. Возможность свободного грабежа была слишком соблазнительна, чтобы большинство мятежников могло противостоять ей. В этом, по мнению римлян, крылось другое объяснение того, что рабы не сумели уйти, получив возможность для этого. Разве могли родные им леса и болота сравниться с теми соблазнами, которые предлагала Италия? Мечты о свободе увлекали восставших куда меньше стремления пограбить. С точки зрения римлян, это являлось решительным свидетельством их «рабской природы».[118] Но на самом деле рабы стремились только к тому, чтобы жить, как их господа, — не тратя собственных сил и чужим трудом. Даже в буйстве они продолжали придерживаться отражения римских идеалов.
Нечего удивляться, что сами римляне, умевшие при возможности отдаться грабежу всей душой, запаниковали. После поражения армии Геллия, когда все легионы Республики несли службу за границей, столица оказалась в опасности. Красе, уверявший, что ему не хватит состояния, чтобы нанять собственное войско, сделал свой ход. Он мобилизовал своих сторонников в Сенате. После яростных дебатов он отобрал у консулов два легиона и получил единоличное командование над ними. Новый генералиссимус немедленно объявил рекрутский набор, учетверив этим силы, находящиеся в его распоряжении. Получив возможность выступить в качестве спасителя Республики, он не собирался даром терять ее. Когда два из его легионов вопреки строгому приказу вступили в бой со Спартаком и потерпели очередное поражение, Красе отреагировал на это возобновлением древнего и страшного наказания — децимации. Каждый десятый в его рати на глазах товарищей был запорот насмерть — непослушные вместе с послушными, отважные вместе с трусами. Военная дисциплина была восстановлена. И одновременно этим был дан знак рабам, втайне стремящимся примкнуть к Спартаку, — им не будет пощады от полководца, способного пойти на такие меры в отношении собственного войска. При всей своей безжалостности Красе никогда не делал ничего, заранее в точности не просчитав эффект. Один-единственный жестокий удар превратил скопидома-миллионера в сурового борца за старинные ценности. Красе превосходно понимал, что традиционная римская дисциплина всегда приветствовалась избирателями.
Прочно установив свою власть, Красе устремился на оборону столицы. Спартак ответил продолжением отступления на юг. Он знал, что именно там, скорее всего, отыщет новых рекрутов. Оставив позади усыпанную процветающими городками Центральную Италию, войско его углубилось на скучные просторы сменявших друг друга поместий. На равнинах можно было встретить только рабочие отряды закованных в кандалы рабов, на взгорьях редкие иноземные рабы-пастухи гнали громадные стада мелкого и крупного скота по опустевшим пастбищам. Прежде процветавшие города и деревни превратились теперь в Italiae solitudo — «пустынную Италию». Отгоняя мятежников вглубь этой пустыни, подальше от Рима, Красе наконец сумел загнать их в самую пяту полуострова. Приближалась зима, и чтобы добыча не могла ускользнуть, Красе укрепил проход от одного берега до другого. Спартак оказался в ловушке. Им были предприняты две отчаянные попытки штурма вырытого легионерами рва и поставленной ими стены. Оба приступа были отражены, к невероятному облегчению Красса, уже начинавшего отчаиваться, подобно своему противнику. Отпущенное ему время заканчивалось. На горизонте уже маячил враг, куда более грозный, чем Спартак. После пяти лет пребывания в Испании домой направлялся Помпеи.
Узнав об этом, Спартак попытался воспользоваться затруднительным положением Красса и предложил переговоры. Красе с презрением отказался. Спартак ответил распятием пленного римлянина перед стеной. Весь долгий день ледяной ветер доносил стоны умирающего до слуха его сограждан. Потом, когда стало темнеть и повалил снег, Спартак предпринял третью попытку прорвать укрепления. На сей раз ему удалось это сделать. Спасаясь от Красса, он начал зигзагами продвигаться на север. Красе, приглядывая одним глазом за восставшими, а другим — за приближавшимся Помпеем, преследовал его с отчаянной быстротой, уничтожая отстававших в стычках, становившихся все более масштабными. Наконец, мятежники вновь оказались загнанными в угол, и Спартак, развернувшись, приготовился к сражению. Он заколол своего коня перед строем своего войска, тем самым говоря о невозможности продолжения отступления, обрекая себя на победу или на смерть. Рабы пошли вперед. Спартак возглавил отчаянный натиск на шатер Красса, однако был убит, не дойдя до него. Вместе с предводителем погибла и основная часть армии мятежников. Великое восстание рабов завершилось. Красе спас Республику.
Однако в самый последний момент слава была украдена у него. Помпеи, направлявшийся со своими легионами на юг в сторону Рима, наткнулся на пять тысяч мятежников, бежавших с поля последнего поражения Спартака. Стремительно перебив всех до единого, он отправил письмо Сенату, хвастая окончательной победой над бунтовщиками. Можно себе представить чувства Красса. Пытаясь свести на нет достижение Помпея, он приказал распять вдоль Аппиевой дороги всех взятых им пленников. Череда разделенных сорока ярдами крестов с телами прибитых к ним рабов растянулась на сотню миль вдоль самой людной дороги Италии, свидетельствуя о мрачной победе Красса.
Впрочем, большинство римлян видело в войне со Спартаком смущающее их событие. По сравнению с подвигами Помпея, тысячами уничтожавшего диких чужаков в далекой провинции, деяния Красса на «заднем дворе» Рима были чем-то таким, что следовало немедленно забыть. Вот почему, хотя оба они были награждены лавровыми венками, Крассу пришлось удовлетвориться второразрядным парадом по улицам Рима, совершенным не в колеснице, а пешком. Помпею, конечно, не пришлось топать по мостовой. Народному герою всегда достается самое лучшее. И пока Помпеи, прихорошившийся на манер юного Александра, под одобрительные вопли толпы ехал в запряженной четырьмя белыми конями колеснице следом за извивающимися по улицам колоннами узников и награбленного добра, Крассу оставалось только смотреть и закипать гневом. Тем не менее он постарался ничем не обнаружить своего недовольства. Приветствия толпы, сколь бы ни были они приятны, представляют собой всего лишь средство к достижению цели, а целью этой для Красса всегда была сама власть. И в бесконечно большей степени, чем триумфа, он хотел консульства. Близились выборы, и он исполнил чрезвычайно ловкий трюк, предложив своему сопернику баллотироваться вместе. Помпеи, столь же ревностно относившийся к политическому мастерству Красса, как Красе — к популярности Помпея, согласился немедленно. Оба они были избраны — без соперников.
Помпею исполнилось тридцать шесть лет к тому времени, когда он сделался главой государства, его возраст существенно не дотягивал до минимального — установленного Суллой. Вопреки всем обычаям, этот новоиспеченный консул никогда не был сенатором. Чтобы не допустить какого-нибудь ляпа, он попросил друга написать ему руководство по поведению для новичка в Сенате. Однако при всей своей неопытности Помпеи не принадлежал к числу тех, кто будет ходить на цыпочках. Порыв вознес его на вершину военной славы, натиск принес он с собой на поле политических битв. Едва сделавшись консулом, он провел закон, вернувший все прежние, отмененные Суллой, права трибунам. Таким образом, был непринужденно устранен краеугольный камень законодательства покойного диктатора, и в политическую жизнь Республики вернулся колоритный, потенциально дестабилизирующий элемент. Толпа, требовавшая подобной меры в течение почти десятилетия, вновь пришла в ликование.
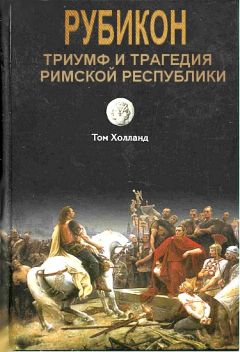
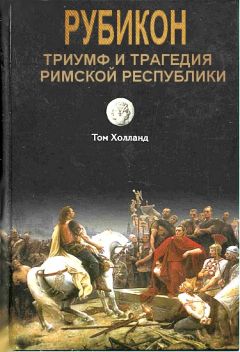


![Дана Белл - Стальная красота [ любительский перевод]](https://cdn.my-library.info/books/151362/151362.jpg)
