— Я смотрю, ты готов записать своего любимчика в родоначальники воздушно-десантных войск?
— Заслуживает,— уверенно сказал Киров,— У него дьявольское чутье на новое, он великолепно чувствует, что нужно в современной войне. Зимой он целые дивизии поставил на лыжи, а пушки и гаубицы — на полозья. И горой стоит за быстрейшее развитие механизированных войск.
— Ты приятно удивил меня.— Говоря эти слова, означавшие, что он присоединяется к похвалам Кирова в адрес Тухачевского, Сталин внутренне все более ожесточался против слишком уж талантливого командарма. «Дай такому прочно стать на ноги и обрести хотя бы относительную независимость, не ровен час, увидишь его воздушный десант над Кремлем». Сталин даже съежился от этого дурного предчувствия.— А я-то, грешным делом, думал, что он лишь мастер закатывать ослепительные балы, мастерить свои скрипки да пиликать на них. И что этого Паганини потянуло на военную стезю?
— Но он же прирожденный полководец! — убежденно воскликнул Киров.
Сталин нахмурился, морщины резко обозначились на узком, круто скошенном лбу, от потемневшего лица потянуло холодом.
— А не слишком ли мы увлеклись разговором о товарище Тухачевском? — хрипловато спросил он.— Не много ли чести? Ты уже забыл, как этот новоиспеченный Александр Македонский с позором бежал от стен Варшавы? Он же нам мировую революцию сорвал!
— И впрямь, Коба, у нас есть более важные вопросы.— Киров не захотел ввязываться в дискуссию и попробовал перевести разговор на другую тему.
— Впереди целая неделя,— согласился с ним Сталин,— Успеем поговорить. Главное — отдыхай, набирайся сил. Иначе любой оппозиционер тебя запросто свалит с ног.
— Пусть попробует! — задорно воскликнул Киров.
И они пошли отдыхать, договорившись перед ужином сходить к морю искупаться. Сталин смотрел ему вслед, пока он не скрылся за углом дачи.
«Слишком самоуверен,— отметил про себя Сталин,— А жизнь часто преподносит сюрпризы и не таким самоуверенным. Особенно если они становятся поперек дороги…»
Пожалуй, больше всего на свете Надежда Сергеевна не любила праздники. И вовсе не потому, что приготовление к ним приносило слишком много хлопот: все приготовления, связанные с застольями, лежали на плечах многочисленной обслуги, а ей оставалась лишь приятная обязанность приобретения подарков — таких, чтобы понравились мужу, детям, многочисленным родственникам и друзьям. Больше же всего ее тяготила та искусственная, нарочитая атмосфера, в которой проходили как приготовления к праздникам, так и, в особенности, сам их церемониал. Ей всегда казалось, что и восторги гостей, и преувеличенное восхваление хозяев, и даже непрестанный, порой беспричинный и бездумный смех — все это и многое другое, что непременно сопровождало праздники и прежде всего застолье, которое чересчур развязывало языки, превращало дотоле нормальных мужчин и женщин в людей, легко и даже бесстыдно переходящих границы приличия, мгновенно меняющих свое настроение — от бурного безудержного веселья до открытой озлобленности или истеричных признаний в бессмысленности пребывания на этой опостылевшей земле,— все это противоречило и нормальному смыслу жизни, и ее высокому предназначению.
Надежда Сергеевна придерживалась того мнения, что каждый день человеческой жизни должен представлять собой истинный праздник, и если этого в реальной жизни не удается достичь, то виноваты сами люди и обстоятельства, в которые втиснула их судьба.
Неприятию праздников постоянно способствовала и еще одна, пожалуй, наиболее важная для Надежды Сергеевны причина: она на опыте совместной жизни с мужем убедилась, что во время застолий и без того тяжелый, непредсказуемый, деспотичный характер Сталина проявлялся во много крат сильнее, достигал своего апогея, а ее реакция на бурные, взрывные всплески его настроения была столь эмоциональной, почти истеричной, что еще долгое время после праздников она не могла прийти в себя, подавить в душе кипящее чувство обиды, жалости к самой себе и ненависти к своему обидчику. Каждый раз после того, как Сталин наносил ей душевные раны, она клялась ни за что и никогда не прощать ему этого, но проходили дни, недели, муж преображался, стараясь ласками и уговорами загладить свою вину перед ней, и она вновь и вновь прощала ему то, что клялась не прощать. И все же душевные раны не заживали…
На этот раз приближающиеся ноябрьские праздники особенно тревожили Надежду Сергеевну. Это было пятнадцатилетие Великой Октябрьской Социалистической революции, как именовали теперь октябрьские события 1917 года. А это означало, что дата сия будет отмечена с особым размахом и блеском и торжественные фанфары прозвучат особенно оглушительно. Еще бы: кто только ни тявкал, особенно из-за рубежа — от высокопоставленных государственных деятелей до скитальцев-эмигрантов, от новоявленных философов и советологов до простого клерка, от бизнесменов до обитателей городской подворотни, от гадалок и звездочетов до газетных писак,— что большевики продержатся не больше месяца, года, трех лет, от силы десять лет, а нате вам, они держатся уже полтора десятилетия, и что-то не видно, что они собираются кому-то подарить свою власть! И Надежда Сергеевна заранее предчувствовала, что Сталин по этому поводу закатит пир на весь мир, вволю потешится над незадачливыми пророками и докажет им, что большевики пришли всерьез и надолго, да что там надолго — на века!
Она уже заранее представила себе торжественный прием в Кремле, начинающийся всегда весьма благопристойно, с предельной вежливостью, предупредительностью и учтивостью друг к другу, с соревнования в умных, прочувствованных, изображающих предельную искренность речах, с обмена любезностями и комплиментами, с ослепительных улыбок, предназначенных для выражения восторга, с желания непременно показать себя наилучшим образом, чтобы оставить о себе наиприятнейшее впечатление, и заканчивающийся всеобщей разноголосицей, невнятной бессмысленной полемикой, пьяными спорами и распрями по поводу самых пустячных вещей, стремлением перекричать друг друга, ошалелым до безобразия смехом, а то и истеричными всхлипываниями какой-то обиженной дамочки из высшего круга.
Надежда Сергеевна больше всего боялась, что в этой большой и шумной компании она вновь и вновь будет ощущать себя одинокой, покинутой, обделенной судьбой, и если муж ее даже в будни принадлежал вовсе не ей, а всей стране, то в праздники он и вовсе отдалялся, отчуждался от нее, занятый только тем, чтобы проявить себя во всем величии перед всем народом.
Вот уже много лет она живет со Сталиным, и не было в этой жизни такого дня, когда бы ее не мучил вопрос, ставший маниакальным и роковым: «Любит ли меня Иосиф? Любит или не любит? Любит или не любит?!» Она скрупулезно исследовала и разбирала каждый его шаг, каждое слово, каждый взгляд и каждый жест, стараясь разгадать их истинное значение и смысл, все больше и больше страшась от понимания того, что разгадать это не дано никому. Часто, оставаясь наедине, она то выглядывала в окно квартиры или дачи, с жалким нетерпением изгнанницы ожидая, когда он наконец вернется с работы, то бродила по комнатам, не находя себе места и невпопад отвечая на вопросы и приставания детей, то судорожно доставала из шкафика письма мужа, посланные ей в разное время, дотошно изучала их, сравнивала и все искала и искала ответ на один и тот же измучивший ее душу вопрос: «Любит или не любит?»
Незадолго до праздников ей вновь захотелось перебрать его письма. Сумрачный осенний вечер уже наглухо отрезал ее от внешнего мира, и она, устроившись на кушетке, поджав под себя холодные ноги, при свете ночника читала письма одно за другим.
«Татька!
28 августа послал тебе письмо по адресу: «Кремль, Н.С. Аллилуевой». Получила? Как приехала, как твои дела с Промакадемией, что нового,— напиши. Я успел уже принять две ванны. Думаю принять ванн десять. Погода хорошая. Я теперь только начинаю чувствовать громадную разницу между Нальчиком и Сочи в пользу Сочи. Думаю серьезно поправиться.
Напиши что-нибудь о ребятах.
Целую.
Твой Иосиф».
«Татька»! Как она была счастлива, когда он ее так называл! Казалось, не было в мире лучше и приятнее этого прозвища! И как это он додумался до такого? Уже за это можно его любить и даже обожать. Татька! Боже мой, как это хорошо, как чудесно! Разве может человек, не испытывающий чувства любви, додуматься до такого!
Но может, он обронил это ласкающее слух прозвище случайно, не вкладывая в него никаких особых чувств? Может, в них просто заложена ироническая усмешка, которыми мужчины любят досаждать женщинам, чтобы их позлить или подзадорить? Кто знает, кто ответит ей на этот вопрос? Во всяком случае, сам он никогда не ответит.
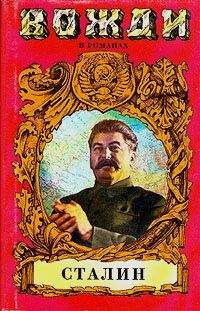

![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](https://cdn.my-library.info/books/142921/142921.jpg)


