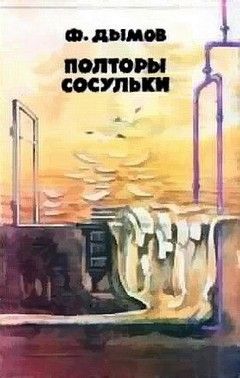* * *
Известие о встрече Главнокомандующего с французами укрепляло ее надежды.
И Нина вместе с Артамоновым и Осиповной взвешивала вычитанные из газеты подробности и убеждала своих недоверчивых собеседников в том, что предстоят перемены к лучшему.
Она как будто присутствовала в Большом дворце и слышала всех этих де Мартелей, Бруссо, Этьеванов, которые обещали Врангелю и Кривошеину... Что обещали? Она этого не знала, но понимала - что-то хорошее.
Газетные строчки это подтверждали: "Де Мартель поделился впечатлениями от пребывания в Сибири при адмирале Колчаке и в Грузии. Де Мартель заявил, что правительство Юга России может рассчитывать на реальную помощь Франции".
Нина простодушна верила всему этому, забыв о причинах гибели адмирала, о войне грузинских националистов с Деникиным...
Напомнил об этом Артамонов. Он пристукнул забинтованным локтем по столу и сказал, что нельзя верить де Мартелю, какие бы песни он ни пел сегодня.
- Усе брешут, - добавила и Осиповна, соглашаясь с новым квартирантом. Обецянка - цяцянка, а дурню - радость.
То есть: обещание - игрушка для дураков.
Впрочем, Нина надеялась на лучшее и показывала им ту часть речи де Мартеля, где говорилось, что французы никогда не забудут неоценимых услуг России, оказанных Франции в начале войны, когда первые волны германского нашествия едва не докатились до Парижа. Де Мартель хоть и не назвал погибшей армии Самсонова, имел в виду ее жертву.
- Ну и что? - спросил Артамонов. - Незачем нам было их спасать. И с Германией воевать - тоже незачем.
- Своим разумом трэба жить! - подтвердила Осиповна.
- Вы хуторяне, нечего с вами говорить, - решила Нина. Она почувствовала, что Артамонов и Осиповна действительно не хотели видеть дальше своего носа, они представляют тот неподвижный, упорный, своенравный народ, который принес ей столько горя.
Разговор прервался.
Вообще после ранения и госпиталя Артамонов сделался другим, словно ничего с Ниной у него не было. Наверное, ее помощь в те дни, когда он лежал обезрученный, теперь угнетала его.
Ну что ж, Нина это понимала, и ей после госпитальной палаты тоже было не до любви. Она просто жалела Артамонова, почти так же, как жалела его Осиповна, без всякого смущения мывшая его в корыте.
Поэтому Артамонов опустился вниз, к Осиповне, к обывателям, где, собственно, сейчас находилась и Нина, да только Нина находилась там временно.
- Сейчас, как и триста лет назад, - Смута, - говорил на рауте в честь членов финансово-экономического совещания Рябушинский. - Элемент, принявший участие в спасении Родины, тот же. Нынче настоящие офицеры ведут борьбу, их можно сравнить с Прокопием Ляпуновым и его сподвижниками. Тогда, как и нынче, Илья Муромец вначале не пошел и не принял участия в спасении земли Русской... На Руси два мужика, один сидит на земле, другой - мужик торговый. После издания земельного закона пошел мужик земли... Я - мужик торговый. Скажу теперь, что и мы поднялись и идем. И встанет вся Русская земля... Перед вами стоит князь Пожарский, наш Главнокомандующий...
Имена Русских защитников в устах московского промышленника звучали для Нины как напоминание о ростовском, еще деникинских времен совещании, где тоже слышались эти колокольные удары.
- Льет колокола! - презрительно сказал Артамонов. - А у нас - одни "колокольчики".
* * *
Колокола били и били, "колокольчики" все падали.
Нине не было суждено подняться из беды. Куда бы она ни обращалась, ее встречал отказ. В управлении торговли и промышленности честный чиновник Меркулов, выслушав ее, развел руками и грустно сказал: "Что я могу?" Видно, и вправду он не лукавил. В его пахнувшем кислым кабинете, застланная солдатским одеялом, по-прежнему стояла походная кровать, и сие означало, что его семья не вернулась.
Симон тоже не помог. Он, конечно, попенял ей за продажу, однако сразу оговорился, что лично у него и Русско-Французского Общества к Нине нет претензий, ибо военная обстановка не в пользу новых рудовладельцев. Симоновы губы насмешливо растянулись, вместо "рудовладельцев" готово было вылететь другое слово, по-видимому, "шакалов".
- Помоги мне, прошу, - сказала Нина. - Я и так наказана.
- Как я тебе помогу? - ответил Симон. - Собственными капиталами я не обладаю... Ты в уголовку обращалась?
Должно быть, он уже сбросил ее со счетов, поэтому и разговаривал безучастно.
- Ты все забыл, Симоша, - меняя тон, предупредила она. - При случае тебе могут напомнить. Стоит мне обратиться к моим друзьям...
Он отвернулся к окну, его лицо сделалось совсем скучным. На виске среди черных волос забелели нити седины.
- Меня убьют? А Винтергауза оставят? - спросил Симон, глядя на зацепившийся за подоконник листок тополя-белолистки. "Уходи, Ниночка! подумала она. - Скорее уходи!"
Ее рука потянулась к бронзовой фигурке скачущего казака и ощутила в ладони холодную тяжесть.
Симон повернулся, вскинул руки, закрывая голову.
Перед глазами Нины мелькнуло давнишнее - она хлещет кнутом.
Она швырнула фигурку в циферблат напольных часов, стекло со звоном рассыпалось, и часы стали бить.
"Слава богу!" - облегченно подумала Нина и воинственно спросила:
- Теперь вспомнил? Или хочешь еще?
Симон выскочил из-за стола. Нина испугалась, что он ударит ее, закричала и кинулась на него. Но Симон шагнул назад, и она увидела, что он тоже боится.
* * *
Часы и колокола били непрерывно, зовя новых Мининых и Пожарских.
Из России, "с мужиков", как говорили казаки, ударил мороз, сжались акации, посыпались белолистки, захрустело под ногами на Екатерининской и Приморском.
Говорили, что на фронте военные замерзают и набивают рубахи соломой.
В госпитале появились обмороженные.
Главнокомандующий встретился с журналистами "Военного голоса" и сообщил, что войска отступают от Каховки.
Красные отрезали белых от Крыма.
Врангель сказал:
- Я решил со своей стороны дать противнику возможность стянуться от Днепра к перешейкам, не считаясь с тем, что временно наши армии могут оказаться отрезанными от своей базы, затем сосредоточить сильную ударную группу и обрушиться на прорвавшегося противника и прижать его к Сивашу. Такой маневр может быть предпринят лишь войсками исключительной доблести.
Если перевести его слова на язык мирных обывателей, то получалась тревожная картина. Получалось, что белым дивизиям надо прорываться из Северной Таврии на полуостров, что речь не о судьбе всей летней кампании (она проиграна), а вообще о спасении.
Через четыре дня началась катастрофа - пал Перекоп. Войска отступили на вторую линию укреплений у Соленых Озер.
Мороз и мужицкий ветер врывались в Крым с десятками тысяч голодных, злых красноармейцев, кричавших: "Даешь крымского табачку!"
И что теперь Нинино несчастье!
Ворвавшиеся в Крым были измождены, питались мясом "иго-го", как они называли убитых лошадей.
Защищавшие Крым лежали в санитарном поезде, рядом с которым на станции Джанкой остановился поезд Ставки. Все замерзли.
На следующий день были сданы позиции у Соленых Озер, а третья линия укреплений у станции Юшунь продержалась еще двое суток. Наступал конец Крымского российского государства.
Существование его было кратко. Ему не помогли ни самоуправление, ни земельная реформа, ни демократические свободы. Не помог и Нинин "Русский кооператив".
Все кончалось. Тридцатого октября был объявлен приказ об эвакуации. По Екатерининской улице и Нахимовскому бульвару потянулись подводы со скарбом, двинулись под твердым взглядом бронзового адмирала вооруженные войска.
Тень новороссийского хаоса нависла над городом. Но пока не было паники, не было и погромов. Магазины бойко торговали снедью, правда, цены взлетели, и фунт колбасы стоил миллион рублей.
Согласно плана эвакуации Нинин госпиталь должен был грузиться на пароход вечером, но в списках ее не было, и это могло обернуться бедой.
Конечно, Юлия Дюбуа обещала ей похлопотать, даже попросить за Артамонова, ведь не пропадать же штабс-капитану.
Да только кто мог ручаться, что на пароходе найдутся места? Никто. Ибо план - планом, а эвакуация - бегство от гибели.
Что было потом, трудно понять. На пристани в огромной очереди Нину впустили на борт вместе с сестрами, а штабс-капитана то ли не взяли вместе с ранеными, то ли он потерялся, так что на судне его не оказалось.
В ранних сумерках, под плеск серых волн пароход, влекомый черным буксиром, отходил от причала. Отодвигался берег, и взгляд прощально охватывал весь Севастополь с Малаховым курганом и Сапун-горой. Все молчали, испытывая мелкое чувство личной безопасности, и не хотели даже смотреть друг на друга.
* * *
Тридцать первого октября утром перед гостиницей Киста расположилось прибывшее из Симферополя Атаманское училище. Юнкера ожидали посадки, а пока осматривались, заглядывали в открытые кафе, покупали продукты, возмущались дикими ценами - фунт колбасы стоил два миллиона.