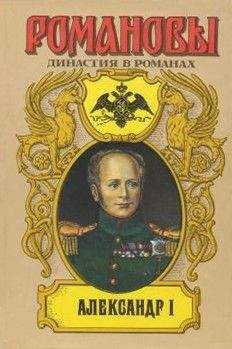— Но слезами и отчаянием не поможешь. Садитесь, успокойтесь, господин Гофман, расскажите мне всё, всё расскажите.
Гарин страдал не менее старого немца, но он превозмог себя и сам, глотая слёзы, старался успокоить Гофмана.
— Скоротечная чахотка угрожает моей дочери смертью.
— Чахотка! Но с чего, с чего?
— От разбитой любви, от погибшего счастья, князь.
— Я вас не понимаю, Гофман! От какой разбитой любви? — спросил с недоумением молодой князь.
— Не понимаете, ваше сиятельство? А понять не трудно: моя дочь любила и любит вас своим чистым и незлобивым сердцем. А вы, князь… — Старик не договорил и печально поник своею головою.
— А я… что же я? Договаривайте, прошу вас!
— Вы безжалостно разбили её сердце, князь.
— Я… я! Да что вы говорите?!
— Вы любите мою дочь? — пристально смотря прямо в глаза Сергею, спросил старик.
— И вы ещё спрашиваете! Больше себя самого, больше жизни!
— Вы говорите правду? Я должен вам верить, князь?
— Я дворянин, господин Гофман! — гордо ответил князь.
— Извините, князь, я… я верю вам. Но это письмо, которое и меня, и дочь так убило…
— Какое письмо, какое?
— А то, которое вы из Москвы написали ротмистру Зарницкому, вашему приятелю. Вы, князь, в том письме писали, что вам отец с матерью не позволяют жениться на Анне, что вам сватают богатую красавицу… Вы с таким увлечением, ваше сиятельство, описали красоту этой барышни, что я и Анна могли подумать…
— А, теперь я понимаю. Но как это письмо попало к вам? — спросил у Гофмана Гарин.
— Как попало — об этом, князь, после.
— Нет, я хочу знать, какой негодяй передал вам это письмо. Надеюсь, не Зарницкий?
— О нет, князь, письмо доставил Цыганов.
— Николай! — с удивлением воскликнул князь.
— Да, он. Я сейчас всё подробно расскажу вам, князь. Вы назвали Цыганова негодяем, — более того, он подлец.
Старик Гофман рассказал князю, с каким нетерпением дожидалась Анна его возвращения из Каменок, как она считала дни и часы, когда он приедет. Сказал и о том, как к ним часто ходил Николай и как уверял Анну, что князю Сергею не позволяют отец с матерью на ней жениться, и в удостоверение своих слов принёс письмо, писанное рукою князя к Зарницкому.
— Этот подлец дошёл до того, что осмелился обнажить свою саблю на мою дочь. Я не знаю, как я не убил его.
— Успокойтесь, господин Гофман, мерзавец кровью поплатится мне за это! — с гневом сказал Сергей Гарин.
Он никак не воображал, что Николай Цыганов, безродный приёмыш его отца, станет ему смертельным врагом. Сергей обходился с ним всегда ласково и предупредительно; он был его благодетелем; благодаря содействию молодого князя Николай получил офицерский чин и пенсию. И что же? Вместо благодарности и преданности «жалкий подкидыш» отплачивает ему подлостью, становится ему соперником, смеет рассчитывать на любовь Анны!
«Если бы он был здесь, я убил бы его как собаку, я задушил бы гадину своими руками! О, моя милая, дорогая Анна! Я жестоко отплачу и за тебя, и за себя этому подлецу. И вот благодарность за все мои старания! Гадкий, презренный подкидыш, ты будешь раскаиваться в своей подлости! Я заставлю тебя раскаяться», — думал Сергей Гарин, слушая Гофмана.
— По приезде на нашу ферму Анну совсем узнать было нельзя: куда девалась её весёлость? Хмурая стала, печальная. Об вас, князь, она скучала, плакала, — дрожащим голосом рассказывал старик Гофман. — Всё вас вспоминала… Стала моя дочь худеть, чахнуть, появился удушливый кашель — предвестник чахотки; я, сколько мог, утешал Анну. Но что значит моё утешение! Наконец Анна слегла. Я пригласил того доктора, который лечил вас, князь. Он хороший, опытный доктор, осмотрел Анну… — тут старик смолк и задумался.
— Ну, и что же доктор? — нетерпеливо спросил Гарин.
— Нашёл у дочери скоротечную чахотку и приговорил её к смерти.
— Неужели нет исхода? Я всё брошу, поеду к ней, приглашу известных, знаменитых врачей…
— От смерти, князь, может излечить один Бог! А врачи тут ни при чём. «Если она переживёт весну, то доживёт до осени, не далее», — вот что сказал доктор.
— Но как же, Гофман, вы оставили больную дочь и решились сюда приехать? — спросил князь.
— Я должен был исполнить волю Анны. Она так просила меня, умоляла отыскать вас, князь. Если… если можно, то прошу вас, князь, к ней поехать: хочется ей на вас взглянуть, проститься с вами! Князь, во имя всего святого, прошу, заклинаю вас — поедемте! Исполните желание умирающей, она так горячо любит вас. «Отец, поезжай, найди князя и привези его: тогда я умру спокойно», — сказала мне Анна. И — поехал; немало трудов и времени стоило мне, князь, вас найти. Вы, вы поедете, поедете?.. Я… я на коленях буду просить вас!..
— Я готов ехать хоть сейчас, сию минуту, я брошу всё и поеду с вами.
— О, за это Господь вас вознаградит, князь!
Сергей Гарин хоть и решил ехать на ферму к Гофману, но не легко было это сделать. Об отпуске во время военного действия и думать было нечего. Князь посоветовался с Петром Петровичем и решил обратиться к главнокомандующему с просьбой откровенно объясниться с ним. Добрый и мягкий Беннигсен участливо отозвался на просьбу своего адъютанта и отпустил его на две недели в отпуск.
Этого времени достаточно было для князя, чтобы побывать на ферме старого Гофмана.
Не мешкая ни одной минуты, князь Гарин и Гофман поехали в Австрию.
В Зимнем дворце, в кабинете императора Александра, как-то необычайно тихо; сам государь с задумчивым, печальным лицом медленно ходил по своему кабинету. Государь только что выслушал донесение флигель-адъютанта Ставицкого,[55] присланного Беннигсеном с донесением о сражении при Эйлау. Известие о русских убитых и раненых произвело на молодого императора сильное впечатление.
— Боже, сколько жертв! Сколько крови! Это ужасно! Приняты ли меры к облегчению несчастных раненых? — спросил государь у полковника.
— Раненых так много, ваше величество, что хирурги и доктора не успевали. Прусский король изволил прислать своего лейб-хирурга, а с ним целый штат докторов и хирургов приехали в Кенигсберг, тогда дело пошло быстрее, — почтительно ответил посланный главнокомандующего.
— Спасибо королю! Этого я не забуду.
— Вообще, ваше величество, жители Кенигсберга так сердечно и заботливо ухаживают за нашими солдатами и снабжают их всем необходимым.
— Свезите моё спасибо жителям Кенигсберга, господин полковник!
— Слушаю, ваше величество!
— А как мне жаль, как жаль моих солдат, убитых в сражении! Сколько осталось после них несчастных матерей, жён, детей! И за всё несчастие, принесённое моему народу, ответит мне Наполеон. Да падёт на его голову невинно пролитая кровь! Этот человек, кажется, для того и родился, чтобы упиваться кровавыми победами.
— Осмелюсь доложить вашему величеству, наше войско при Эйлау билось мужественно и храбро, несмотря на то, что неприятель превосходил наши силы. Доказательством вашему величеству служат знамёна, отбитые у французов, — проговорил Ставицкий.
— О, я уверен! Храбрость солдат мне хорошо известна. И непобедимый Наполеон едва ли осилит нас, хоть мне сердечно жаль проливать кровь, но я не положу оружия и буду биться. Делаю это я не из своего личного самолюбия или из тщеславия. Нет, нет! Избави Боже от этого! Я люблю Русь и народ, стараюсь о его спокойствии и благосостоянии. Счастие народа мне дорого.
— Ваше величество, народ прославляет вас и называет своим ангелом-хранителем.
— Вся моя жизнь будет посвящена исключительно моим подданным! Поезжайте, господин полковник, к главнокомандующему, свезите ему моё благоволение, а солдатам скажите моё спасибо! Уверьте участников славного боя при Эйлау, что всех их ждёт награда.
— Государь, царское спасибо для вашей армии выше чинов и орденов, — ответил Ставицкий.
— Затем скажите Беннигсену, чтобы он приложил все заботы о солдатах, в особенности о раненых. До меня дошёл слух, что в действующей армии сильный недостаток фуража и провианта. Этот слух ужасен! Бедные солдаты принуждены сражаться голодные, в рваной амуниции, в худых сапогах. Это зимой-то!
— Не смею утаить правды от вашего величества: нерадивое отношение провиантских чинов…
— С них строго взыщется, они будут судимы военным судом.
Откланявшись императору, флигель-адъютант Ставицкий вышел.
Государь подошёл к окну, выходившему на дворцовую площадь, и задумчиво стал смотреть; проходивший площадью народ, увидя в окне государя, стал останавливаться и низко ему кланяться. По прошествии некоторого времени собралась большая толпа; взоры всех устремлены были на окно, в котором виднелась величественная, прекрасная фигура обожаемого монарха. Государь, заметив народ, быстро направился к выходу; накинув на плечи шинель и накрыв голову треугольной шляпой с перьями, он вышел на крыльцо.