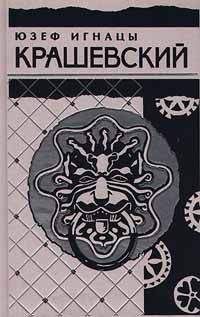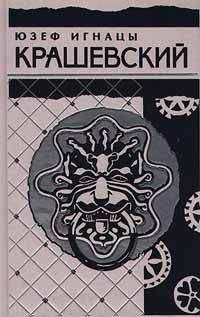Первый, привезший это известие в Дендерово, был ротмистр Повала: он пустил его среди общего разговора, и оно долетело прямо до ушей Цеси. Ни покраснела она нисколько, ни удивилась, только сказала себе: «Он воротился для меня».
— Но что мне, — прибавила она, — какой-нибудь бедный учитель, хоть он, кажется, и сходит по мне с ума! Невероятно, чтобы он не явился к нам. Приму его холодно и строго! Это дерзость.
Граф, узнав об этом, нахмурил брови и стал заметно беспокоиться.
— Он хотел ехать в столицу, — сказал он, — или поселиться в Житкове, в Каменце. Зачем же вернулся опять сюда? Тут нет смысла! Нужно увидеть его и хорошенько намылить ему голову.
В это время кто-то стал искренно распространяться по поводу благодеяния, оказанного графом Вацлаву; старик Дендера отвернулся, нахмурившись, и будто по чувству скромности прервал:
— Не станем говорить об этом, не стоит!
Он заметно смешался и не рад был известию.
Вацлав в Кудроставе не легко привыкал к чужому дому и к своей обязанности. Да и дом-то был оригинальный, каких и у нас немного, хоть у нас нельзя пожаловаться на недостаток оригиналов. Господа Дембицкие, недавно разбогатевшие, желая войти в круг помещиков, соединяли скупость с роскошью напоказ, которую, по их убеждениям, требовало их новое положение. Эта мещанская роскошь, безвкусная и смешная, вместо того, чтобы возвышать, унижала их и выставляла на смех, которого они не умели и заметить, потому что все насмешки принимали за чистую монету, не допуская мысли, чтобы кто-нибудь вздумал смеяться над ними.
Горек хлеб чужой, горька чужая кровля, хоть бы и не из милости приходилось есть, не из милости пользоваться приютом; хоть бы за то и другое платил и переплачивал труд, все-таки тяжела жизнь наемника! Тем, кто предлагает нам свой стол и свой дом, кажется часто, что никакие усилия и самопожертвования не в состоянии оплатить их великого благодеяния; а нам думается всегда, что работа стоит гораздо дороже. Тяжело быть слугой; каково же быть в этом ложном положении, которое отделяет слугу от бедного приятеля? Если мы имеем дело с людьми без сердца, идет постоянная борьба: они хотят, чтобы ты был их слугою, ты хочешь остаться независимым. Именно в таком положении был Вацлав у Дембицких, которые хотели сделать из него все, в уверенности, что за их небольшие деньги они купили себе всего человека, что он продался им во всех отношениях, без исключения; каждая минута его свободы считалась украденною, и как скупец, который, заплатив за кушанье в харчевне, съедает его до последней крошки, хоть бы заболел от этого, так они везде и во всем постоянно пользовались услугами Вацлава. Кроме уроков музыки, он должен был постоянно ожидать их приказаний; сам пан Дембицкий посылал его после обеда в город и сердился, если он не возвращался к утреннему уроку; его просили вести счеты, смотреть за людьми, давали скучнейшие и неприятнейшие поручения, не обращая внимания на то, что это мучит его. Он должен был считать себя счастливым, что прислуживает.
Пани Дембицкая, если соблаговоляла дать ему лишнюю чашку чаю, воображала, что уже во всех отношениях исполнила долг вежливости. Жалка и тяжела была эта жизнь! Беспрестанно водимый напоказ и принуждаемый отличаться, унижаемый и бросаемый, как пешка, Вацлав, едва отведав деревенской свободы, рад был бы как можно скорее от нее отделаться.
Единственным утешением ему было вырваться на свободу: походить, подумать часок, помечтать о своем искусстве и его великих таинствах; а несколько книжек, немых друзей, лучших (хотя и они так часто обманывают), ободряли его.
Дом Дембицких, как уже сказано, был оригинален. Пан и пани оставались по-прежнему экономами, разыгрывая при надобности господ, и разыгрывали их весьма смешно. Оба, по-видимому, не занимались хозяйством, иногда даже притворялись совершенно равнодушными к нему, но украдкой мешались в дела слуг, мучеников их недоверия, и, зная отлично свое ремесло, везде искали обмана, где его даже и не было.
Сам пан Дембицкий, высокий, сильный мужик, с рыжими усами и бакенбардами, притворялся, что чрезвычайно любит газеты и общество; кричал чрезвычайно громко и смело врал; побрякивал деньгами, об изобилии которых упоминалось частенько; тратился на роскошь наружную и жил с отвратительнейшею скупостью. У них была коляска, карета, цуги, ливреи; но люди у них ели без соли, ходили дома босиком или в лаптях, а какой-нибудь мужик из деревни прислуживал от воскресенья до воскресенья и назывался хамом.
Поднявшись выше своего положения, Дембицкие думали о себе уже так высоко, что всех, кто стоял ниже их в общественной иерархии, считали недостойным взгляда, такою дрянью, таким ничтожеством, что едва называли их людьми. Можно себе представить, как глядели они на Вацлава, принужденного служить им из-за куска хлеба.
С высшими, хоть и лезли они в равенство, оба беспрестанно переходили от гордости и надменности к невольному уничижению. Случалось, например, что Дембицкий вставал при входе каждого и уступал свое место ради какого-нибудь титула; но бывало также, что желание его поддерживать свое воображаемое достоинство доходило до невежливости. Не каждый, кто хочет, может быть барином.
Дом соответствовал их характеру и образу жизни: это было неловкое подражание тому, что видели они у других, не у места и без надобности, а главное без вкуса. Строения, разрисованные, с гербами, затейливые решетки разных родов, одна другой неуклюжее, и разные потешные украшения пестрили так называемый английский двор. Сад, сочинение самого Дембицкого, украшался беседками и лавками в особенном вкусе. Гостиная с мебелью Тестори и Байера представляла в каждом углу иную физиономию; нет надобности говорить, что все это было покрыто чехлами и старательно сберегалось, открываясь при каждом удобном случае; цена какой-нибудь дрянной игрушки объявлялась непременно к сведению тех, кому не было до нее никакого дела; домашние, вследствие неоднократных повторений, знали даже, сколько заплачено было за дощечку в паркете.
В такой-то дом на первый раз попал Вацлав, не находя в нем ни одной живой души, которая захотела бы разделить его горе, которая поняла бы его страдания; напротив, все, казалось, завидовали его счастию.
Вацлав, привыкший терпеть, спокойно, с улыбкой исполнял свои обязанности и пил до дна горькую чашу своей службы. После двухмесячного пребывания в Кудроставе, вследствие его просьбы, ему позволили ездить в Дендерово; это был удобный случай похвастать и лошадьми, и экипажем; ему дали парадную коляску и цуг гнедых с предостережением, чтоб он не замарал сукна и не приказывал гнать лошадей, чтобы люди не напились, чтобы что-нибудь, сохрани Боже! не случилось с экипажем и с лошадьми.
С некоторым чувством страха отправился Вацлав в дом, где провел детство и молодость; и перед глазами его, наполненными слезами, являлся образ Цеси. Когда он увидел сад, стены дворца и места, освященные долгим страданием, мечтаниями, годами надежд и мучений, когда утешал себя еще будущностью, бедный сирота тихонько заплакал.
Граф принял его сухо и спросил:
— Что же это? Я слышал, ты удалился из Житкова и закопался в деревне? К чему это ведет?
Вацлав рассказал всю историю своего пребывания в городе и сомнения о будущности.
— Ты хочешь, чтобы судьба поднесла тебе ко рту голубей изжаренных, — заметил Дендера, пожимая плечами. — Этого никогда не бывает: надо бороться, работать и не раз перетерпеть горе. Очень легко продать себя за ничтожный кусок хлеба; но, повторяю, это ведет к женитьбе на горничной и к тому, что ты сделаешься каким-нибудь органистом.
Вацлав молчал, чувствуя себя отчасти виноватым.
— Что же ты думаешь? — спросил граф. — Долго ты здесь останешься?
— По крайней мере, с год.
Дендера покачал головой с очевидным неудовольствием.
— А, делай, что хочешь, — сказал он, — но предупреждаю тебя, ты на совершенно ложной дороге: тратишь молодость и пропадешь ни за грош.
— Но, чтобы подвинуться вперед, — произнес тихо Вацлав, — надобны средства, помощь, деньги…
— Их я тебе не дам, — ответил Дендера с цинизмом, — я не взял бы на свою совесть помогать далее твоему безделью; довольно делал до сих пор; надо самому о себе подумать и, главное, не тут, не в деревне, искать себе счастия!
Вацлав хотел отвечать; но доложили о прибытии Фарурея, и граф взял Вацлава с собой в гостиную с тем, чтобы он показался жене и гостям. Он немножко тщеславился своим воспитанником и иногда любил показать его так, чтобы возбудить вопросы и толки о том, что он сделал для покинутого сироты.
Войдя, они застали уже графиню и Цесю, подле которой, со своей моложавой миной и со старым лицом, выбеленным только заново, сидел Фарурей, нашептывая ей французские любезности и заученные двусмысленности. Цеся, страшно изменившаяся, самоуверенная, смелая, болтливая, нарядная, небрежно сидела на диване, любуясь букетом великолепных камелий, который, неизвестно откуда, достал ей Фарурей.