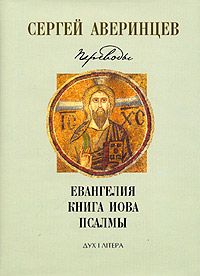Один из конюхов издали обратился к князю:
– Сбил всех и залетел в конюшню. Как услышит выстрел, сходит с ума.
– Попробуйте несколько дней стрелять почти беспрестанно, пока не отупеет.
– Пробовали, княже.
– Попытайтесь еще. Иначе какой же из него конь? Татарам разве на махан…
Послышались выстрелы. Животное приседало на задние ноги. Благородный белый дрыкгант, весь в мелких черных пятнах и разводах, как леопард.
– Отпустите! – неожиданно крикнул Алесь. – Вы что же, не видите? Он не хочет.
– Помолчал бы ты, – сухо сказал князь, – христианин.
– Так он ведь не хочет. Он протестует! А они не могут понять!
– А ты можешь? – спросил князь.
Алесь опустил голову. Все было кончено. Унижение несчастного Тромба завершило все. Он ненавидел этого человека всей силой своей молодой ненависти. Да, он не мог. Но в чем виноват Тромб?
Тромб вдруг бросился в сторону, дал свечку, и люди сыпанули кто куда – кто на стену, кто в конюшню, только ворота хлопали.
Поле битвы в мгновение ока осталось за конем. А он то бил передними копытами в ворота, то носился по манежу…
Князь почувствовал какую-то пустоту и обернулся…
…Алеся не было рядом с ним. Мальчик подлез под жерди. Он был уже почти на середине манежа. Шел к коню, тоненький и совсем маленький на пустом ослепительно белом кругу.
Поздно было крикнуть. Поздно броситься на помощь. И Вежа только впился пальцами в волосы.
Разъяренный конь заметил нового врага, стрелой метнулся к нему и вскинул в воздух передние копыта.
Князь не закрыл глаз, просто у него на миг потемнело в глазах. Сейчас опустятся копыта… Он сам не помнил, как ноги перенесли его под жерди, на помощь, на бессмысленную помощь.
Конь опустил копыта… на опилки. Мальчик стоял почти между его ногами. Шея коня была закинута, глаза смотрели сверху на человечка, и оскаленный храп был в нескольких вершках от лица Алеся.
Над манежем висела звонкая тишина. Крикни – и все сорвется. И в этой тишине ласково-печальный мальчишеский голос нежно пропел:
– Не надо… Не надо…Тромб…
Трудно сказать, как это произошло. Может, конь устал, может, понимал, что нельзя трогать слабого подростка. Но он отвел храп и громко фыркнул.
Мальчишечья рука протянула ему на ладони кусочек сахара. Конь снова прижал уши: у людей за сахаром всегда следует плеть.
– Возьми, Тромб, – спокойно сказал человечек, и в голосе его теперь не было печали. – Возьми… Ну…
Тромб покосился. Мальчик был маленький и не страшный. И это белое на ладони…
Конь потянулся и взял сахар. Алесь почувствовал ужасную слабость.
Князь подошел к нему, и Алесь сказал глухим, чтоб не расплакаться, голосом:
– Прикажите привести мне мою кобылку… Я хочу домой.
Глаза их встретились. И одним этим взглядом старик постиг душу ребенка.
– Прости меня, сынок, – сказал он. – Прости…
Они шли рядом, рука к руке. Ничего не изменилось. Только мальчик все время спрашивал, а старик все время отвечал. Только теперь князь чаще употреблял мужицкие слова, употреблял без нажима на акцент, не огрубляя их, спокойно и естественно. Конюхи, когда старый и малый уходили из конюшни, растерялись. Не было никакого приказа о Тромбе. А Тромб, словно боясь остаться один, осторожно пошел за мальчиком, косясь на людей. И тогда старик обернулся.
– Коня в стайню, – сухо бросил он слугам, – двойную норму овса и фунт сахара ежедневно. Кстати, – добавил он, – я не прочь попробовать утиного мяса. Прикажите, чтоб зажарили в испанской подливе, с гвоздикой.
Все удивились: князь терпеть не мог утиного мяса и гвоздики. Из дичи он любил только куликов, да и то под мучной местной подливой.
Все было по-прежнему. Только ненависть мальчика уступила место настороженности. Он не понимал этого старого человека.
А князь шел и, не замечая настроения мальчика, говорил:
– Любишь коней? Это хорошо… Что, отец все со своей винокурней?… Ага… хвалил, говоришь, свое хозяйство? Напрасно… Погибель эти винокурни, вот что.
Шли тем же самым неухоженным парком, где лишь редкие статуи иногда напоминали, что это парк.
Натолкнулись на озерцо, окруженное высокими искусственными скалами и потому тихое и сумрачное, как озеро мертвых. Дед достал из грота два ружья.
– Видишь на том берегу белый камень?
– Вижу.
– Попробуй попасть.
Алесь попал двумя пулями из трех, – видно было, как отлетели каменные осколки.
– Неплохо, – сказал дед. – А теперь давай я.
И начал целиться. Мертво лежала гладь глубокой, спокойной и прозрачной воды. И тут Алесь заметил, что ствол ружья неуклонно и твердо опускается и теперь глядит прямо в воду, в которой неподвижно стоит отражение черных скал и белый кружок камня-мишени.
– Куда вы? – спросил Алесь.
Вместо ответа старик нажал на курок. Так и есть, ниже, потому что брызнула вода. Но одновременно – Алесь даже удивился – от камня полетели осколки. Второй выстрел. Третий. Четвертый. Все то же.
– Тебе надо тоже научиться, – сказал дед. – Я целюсь в отражение на воде, а пуля попадает в настоящую цель, рикошетом, отскочив от поверхности. [71]
– Зачем это? – удивился Алесь.
– А затем, что плох тот стрелок, который хорошо стреляет лишь днем. Надо уметь стрелять и ночью. Во тьме ты часто не видишь врага, который идет противоположным берегом, а отражение хорошо видишь.
В небольшой разрыв листвы Алесь увидел над парком и выше всего вокруг пригорок с лысой вершиной, а на нем что-то розово-оранжевое, вознесшееся прямо в небо своими колоннадами.
– Храм солнца, – сказал дед. – Он дольше, чем все в округе, видит солнце. Но туда мы не пойдем. Там могила моего лучшего коня, звали его Эол. Все его дети и внуки не то.
– Может, не знали, как к Тромбу найти подход?
– Может, и так… Хочешь – себе возьми… И… к выстрелам все же приучи…
– Не знаю. Когда же я за это возьмусь? – сухо спросил Алесь.
Князь молча шел рядом с внуком. Лицо его было спокойным и даже безразличным. И никто не знал, не мог бы догадаться, что после случая с Тромбом в душе князя пела радость.
"Мой… Гордый, обиды не простит… Не сына, не кроеровской крови… Мой".
А вслух сказал безразлично:
– Ну, смотри, как хочешь… Там, за Жерелицей, березовая роща… Там, ближе к дому, тоже над речушкой, мой театр… Ну, а сейчас пойдем ужинать, потом будем смотреть трагедию. Ты никогда не видел театра?
У Алеся сильно забилось сердце. О театре ему рассказывали. Отец и мать видели театр много раз в больших городах – в Могилеве, Вильне, Петербурге.
– Надо только быстрее… потому что… завтра же мне ведь рано ехать.
– Ты завтра не поедешь, – сказал старик.
– Почему это? – Алесю сразу вспомнился обычай князя закрывать на замок лошадей. – Мне надо.
– Если надо, так надо, – безразлично сказал князь. – Но дела прежде всего… Завтра надо еще комнаты во дворце осмотреть, картинный павильон. И самое главное – секретарь мой на неделю уехал, женится; чужим мои дела доверять нельзя, и я думал, что ты сможешь мне помочь. Почерк у тебя хороший?
– Плохой.
– Тем лучше… Терпеть не могу людей с хорошим почерком… Да, наконец, что я? Ты же мне помочь не сможешь.
– В чем?
– Да я, как бы это сказать… составляю "Записку о властях… земных и небесных. Опыт… рассуждения неверноподданного… о верноподданных".
Никто в мире не мог бы заметить, что князь дурачится, так сух был его тон.
– Это интересно, – вежливо сказал Алесь.
– Ну вот. Я думал, ты смог бы меня выручить… дня на – гм! – четыре… Я знаю, тебе будет скучно со мной. Но дело есть дело. Три часа в день – ему. В остальное время – делай что хочешь…
Князь обмахнулся платком, незаметно прижимая его ко рту, чтоб не рассмеяться…
– И еще, – врал он, – теперь пойдут дни репетиций. Надо посмотреть весь репертуар этого года. Завтра идет "Федра". Послезавтра опера – "Волшебная флейта" и еще что-то вроде добавления к ней, "Мятлушки [72] весенней ночи" – это балет. В следующий вечер должен идти "Дубина, полесский разбойник, или Чудеса заброшенной мельницы", потом "Сид", "Ричард Третий", или история о том, как злодей король утопил брата в бочке с мальвазией… Ну, словом, много. Еще пять пиес.
Князь нарочно прибавил к названию знаменитой трагедии длинную тираду, чтоб было интересно. Потом закончил:
– В конце концов, как хочешь… Если тебе срочно надо в Загорщину, я не буду тебя удерживать. Завтра же прикажу оседлать твою кобылку, и поезжай.
Сердце Алеся разрывалось между гордостью и возможностью посмотреть все, чего он еще не видел. Гордость наконец не так и мучила теперь, потому что тон князя изменился и из суховато-издевательского сделался почти миролюбивым. И мальчик вздохнул: