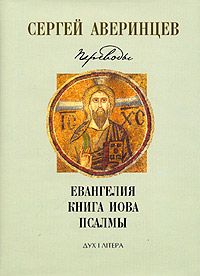А перья были особенные: гусиные, тонко заточенные, мягкие, всегда из левого крыла, чтоб удобно было держать в руке.
Дед пригубливал вино и начинал диктовать, будто забавлялся новой игрой, но так, что этого нельзя было заметить:
– "Рассуждения о преступлении и наказании…"
Перо у Алеся начинало бегать.
– Не спеши, – говорил дед. – Выслушивай и записывай самое главное… Так вот, мы остановились на несоответствиях между человеческими законами и естественным законом природы…
Дед думал с минуту.
– Человек следует законам природы лишь в худшем. Он карает смертью даже за то, что природа прощает по милости и жестокости своей… А между тем, безусловно, смерти подлежит лишь одно преступление – издевательства над человеческой душой, пытки над человеческим телом… Сюда надо отнести насилие над женщиной…
– Батюшка, – с укором сказала Глебовна, – ему рано.
– Молчи… Завтра я, может, умру, так и не дождавшись, когда ему будет "время". Пусть слушает. Он не поймет этого дурно…
– Тебе лучше знать, – примирилась она.
– Вы говорили, что в Пивощах стреляли, – сказал Алесь. – Что атаман Пройдисвет убивал от голода… Тогда и… нас…
– Возможно, сынок.
– Ба-атюхна мой! – вздохнула Глебовна. – Вы же не ударили никого за всю жизнь.
– Он рассуждает умно, матушка, – сказал князь. – Я не ударил, но мое положение таково, что я могу ударить человека, который не может ответить. Значит, разница небольшая.
– Вы барин милосердный.
– В милосердии и дело все. Милосердный. Осчастливил. А его сын, скажем, будет немилосердный. Или мы погибнем во время грозы на Днепре. Все.
– Свят-свят! – крестилась Глебовна. – Вы что-то ужасное говорите.
– Правильно, дедуля, – сказал Алесь. – Я и сам это думал. А потом придет какой-то Кроер.
– Вот, – продолжал дед. – И потому мы, независимо от наших хороших качеств, участвуем в одном огромном преступлении, имя которому… Российская империя.
Старый вольтерьянец улыбнулся. Зеленая и солнечная тень лежала на его лице, а в вольерах далеко и приглушенно кричали птицы.
– Почему же не изменить этого? Есть понимание, есть желание, есть оружие.
– С кем изменишь, сынок? Если б было с кем, я первый благословил бы тебя на это, – грустно улыбнулся старик. – Не с кем. Погоны, ордена, привилегии развратили почти всех. Это подлость. Это замаскированные взятки, которыми покупают жадных к почестям и просто нечистых людей. И вот потому я говорю тебе это, чтоб ты не был похож на них. Никогда не бери приманки, никогда не бери славы и власти, даже если тебя силой будут тянуть к ним. Никогда не иди в совет нечестивых, блажен муж.
Сияло солнце, заливались птицы в тени деревьев и вольерах.
– Не с кем, сынок… Времена… Ровесник Шекспира имел возможность видеть большинство прославленных английских драматургов. Ровесник царя – чуть не всех мерзавцев и подлецов мира, потому что и в том и в другом случае существовали условия, которые благоприятствовали их появлению и развитию. Короче – какая эпоха, такие и таланты.
– А мы? – спросил Алесь.
– А что мы? Историю Приднепровья должен был бы писать палач. Он имел возможность наблюдать за кончиной всех сколько-нибудь значительных людей твоей и моей родины. И он был бы самым просвещенным, потому что лишь он один мог знать, сколько тайных заветов передали они плахе своими обескровленными губами… Больше никто не знал. Больше никто не слышал…
Алесь давно бросил записывать. Но старик не замечал этого.
– Вот, скажем, знаменитые Царь-пушка и Царь-колокол… Это пренебрежение законами природы и механики, пренебрежение сознательное, пренебрежение во имя царской глупой спеси, во имя варварского стремления удивлять всех размерами, величиной, весом… Сотни людей страдают, добывая железо и медь, задыхаясь от дыма у форм… И все ради того, чтоб пушка не стреляла, а колокол лежал на земле, не выдерживая своего веса, и не звонил…
Алесь, вначале очарованный этой желчной логикой, понемногу начал сопротивляться:
– Есть ведь оружие, чтоб воевать. Можно убеждать, спорить, собирать друзей…
– Это значит – политика? – спросил старик.
– Как бы ни называлось.
– Политика – грязное дело. Ты знаешь, в чем она, политика?
– Наверное, есть и хорошая политика.
– Кто это тебе сказал? Те, что украшают свои делишки павлиньими перьями? А сами они, говоря красивые слова, что делают? Ты на их дела смотри – волки. Mon fils, il n'y a qu'une politique, c'est de tenir le pot de chambre a l'homme au pouvoir, et de le lui verser sur la tete, quand il n'y est plus. [73]
И князь отодвигал бокал. Поднимался.
Потом вместе шли гулять. Осматривали комнаты, залы для балов, малых приемов, греческий зал для античных статуй, египетский для монет, затем самый большой, версальский, – для фарфора и новых картин.
Осматривали жилые комнаты, которые были вдвое ниже парадных, осматривали библиотеку с бесконечными шкафами, в которых чернели древними досками и золотились новым тиснением бесчисленные книги.
И всего этого было так много, что становилось не по себе. Зачем это? Сразу понятно, почему здесь почти не живут, почему отдают предпочтение комнатам, которые вдвое ниже и уютнее.
Вечером Алесь шел в театр и там смеялся, и оплакивал горестную судьбу Аглаи из "Полесского разбойника", и дрожал от жалости и печали, когда в "Ричарде III" урод король, убив Ее мужа, с дьявольской хитростью обманывал Ее. Она стояла, гордая в своей ненависти, и понемногу тот горбун пробуждал в ней гордость женщины, которую любят. На глазах у Алеся рождалась любовь, о которой он лишь смутно слышал… В Ее влажных глазах, тускло освещенных ненавистью, рождался целый мир – доверие, боль, а за ними свет самих небес…
Он еще не мог сдерживаться, и потому в зале часто звучали его рыдания. И люди на сцене чувствовали, что один благодарный зритель заменяет им полный зал.
Когда спустя много лет знаменитую актрису спрашивали, помнит ли она дни, когда играла лучше всего, и кто это видел, она отвечала:
– Помню. Но этого никто не видел. Только один. Вся остальная моя игра – подделка под те дни. Лишь для одного я могла так играть.
– Где же он, этот счастливец?
– Счастливец?… Нет…
Она больше ничего не говорила. И неизвестный "один" стал легендой.
Нельзя сказать, что у него не было огорчений. Как-то дед рассказал, как два года тому назад нескольких "фалангистов" закутали в саваны и, привязав к столбам, держали с мешками на головах долгое время под дулами ружей, а потом загнали в Сибирь. Это было в Петербурге, и среди "фалангистов" был писатель. Как не прочесть такого? У деда нашелся журнал с его повестью. Повесть называлась "Бедные люди", и Алесь, с трудом осиливая язык, прочел ее за два дня…
В эти дни как раз окончился срок, назначенный дедом. Алесю надо было ехать. Дед ходил мрачный, да и Алесь не находил себе места. Дед, узнав внука за эти дни, теперь ужасался, что мог оттолкнуть его в первый же день. Все свои черты, все черты людей, которых он уважал, он предчувствовал в этом человеке. Вежа видел во внуке самого себя, только неизмеримо улучшенного, и гордился этим.
Накануне старик не выдержал:
– Едешь? Наверно, рад?
– Дедушка… – с укором сказал внук.
– Едешь только на несколько дней… Конечно, родители… Но за твоей наукой буду следить я. По крайней мере год-два, пока мне не станет трудно. И когда я захочу тебя видеть, по первому же моему зову ты должен лететь сюда и жить столько, сколько я захочу.
– Я сделаю это… – ответил внук.
Алесь попросил деда дать ему с собой журнал, чтоб показать повесть матери.
– Здесь все твое, – мрачно сказал старик. – Сделай одолжение, никогда не спрашивай.
…В Загорщине мальчика встретили радостно, даже с гордостью – он смог завоевать сердце старика. Синие глаза отца сияли теплотой, мать улыбалась сыну ласково и грустно, как всегда.
Молча прочла повесть и опечалилась. Потом она сидела в загорщинском архиве и что-то искала по "Привилегиям", "Бархатной книге", "Серебряной книге Загорских" и по грамотам и явилась к ужину немного успокоенная, словно поняв что-то…
– Погубили гения,- сказала она.
Алесь молчал.
– Даже если вернется, то вернется изувеченным, – продолжала мать. – Что же это за подлый век! Человек такой впечатлительности, разве он выдержит?
Она подошла к балюстраде и стала смотреть в темный парк.
– Погубили не только гения, – сказала она наконец, – погубили человека одной крови с нами и нашего дальнего родственника.
– Родственника? – Алесь встрепенулся. – Как родственника? Все говорили, что он сын лекаря.
– Из наших, – сказала мать. – Род старинный, но пришел в упадок. Я думала, и не осталось из них никого. Однако есть. Их майорат – Достоево под Пинском, и они оставили его, обеднев, лет сто назад. Они от "сына любви" одного из Загорских, младшая, боковая наша ветвь. А их герб – "Радван".