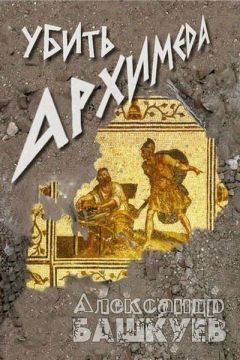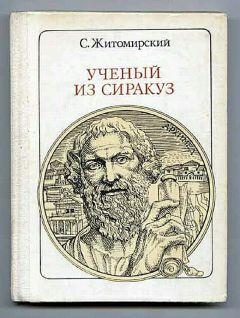— Хорошая сегодня погода, Дурак. А какой вид! На все четыре стороны… Сиракузы отсюда, как на ладони. Это все твои люди?
Я осмотрелся, пересчитал их еще раз, будто не делал этого уже раза три сразу после побоища и кивнул:
— Да. Это все. Все — восемнадцать…
Марцелл покачал головой и задумался. Затем вдруг спросил:
— Тебе повезло. Всегда забываю спросить, — сколько же тебе лет?
Я даже растерялся, — представьте себе, никак не мог вспомнить, когда же я появился на свет.
— Двадцать, Ваша честь. Целых двадцать.
Марцелл рассмеялся, весело пожал плечами и произнес:
— Это много. Это очень много. Сегодня у меня полегло много патрициев. Поэтому я назначу тебя центурионом «штурмовой» сотни Авентинской когорты. Вообще-то не принято делать таких назначений для столь молодых, но сдается мне, — ты, Дурак, старше всех прочих! Так что — принимай-ка «Боевого Орла» и набирай новую сотню. Да, и людей своих не забудь. Эй, выдайте этим всем алые плюмажи, плащи, да позолоченные поножи и наручни! С этой минуты все вы — моя личная Гвардия.
Он снова надел на голову шлем, еще раз посмотрел на крохотное пятно на горизонте внизу — Сиракузы — и пошел к свите. А потом они все поехали вниз на восток — к Сиракузам. А я из центурионов ауксиллярии стал командиром преторианской сотни прославленной «Авентинской когорты». А мои семнадцать бывших рабов — «всадниками» и почти что патрициями. (Без права передать титул наш по наследству…)
Нам бы всем плясать да сходить с ума от радости, а я вместо этого заснул прямо на этом раскаленном солнцем камне, посреди всего этого смрада и вони. Что взять с Дурака?
А через неделю мы вошли в Сиракузы. Нашей когорте была предоставлена честь начать штурм и мы пробили Сиракузы насквозь, — до самого моста на Ортигию, в коей прячется гад-Архимед, и африканцы в прочих частях города оказались отрезаны. Так они спускали на воду все, что плывет, и пытались переплыть на Ортигию. Их шлюшки лезли к ним на лодки, а черномазые выбрасывали их за борт. Вот такая любовь.
А мы выловили всех этих баб из воды и обрили их наголо, а потом отправили в Рим на потеху. Раз уж черномазые побросали здесь своих баб, стало быть, их песенка спета. Вообразите себе, среди этих потаскух попадались даже и италийки! Никогда не мог взять себе в толк, как можно идти в постель с черным? Будь я бабой, я бы уж точно вскрыл себе вены или горло пред этим. Нет, я понимаю, когда этим занимаются гречанки, но чтоб — наши? Ладно, черт с ними…
В общем, взяли мы Сиракузы в самом начале лета, вычистили всю Сицилию к осени, наступила зима, а Ортигия — держится. Чертовы греки на каждом углу хвастают, что это держатся Сиракузы, но все это чушь собачья, — где тогда квартируем мы, как не в Сиракузах? А Ортигия — крепкий орешек. Мне мой старикан говорит, что за всю историю Сиракуз еще никто не смог взять Ортигию.
Говорят, в дни Пелопонесской войны меж афинскими «академиками», да такими же, как и мы, простыми ребятами Спарты именно об Ортигию обломали зубы свои чертовы «академики»! А наши выиграли. Тем более, что старикашка наш говорит, что афинский флот лежит теперь на дне этой бухты, а кости всяких там «академиков» белеют сзади нас — на Высотах…
Я взобрался на эти Высоты (но я-то — римлянин!), а у греков на это кишка тонка. Тем более — Академиков…
Старикан говорил как-то мне, что этот вот Дионисий, что выстроил Ортигию да Высоты, начинал, как наемник без роду-племени. Его и прозвали-то Дионисием за любовь выпить!
Так мы все тут думаем, что Дионисий тот — точно римлянин. Греки хорошего вина и не ведают, — разбавляют водой чуть ли не сок, а тут сразу видно — наш человек!
Греки — мастера на всякие глупости да безделицы, а Ортигия да Высоты выстроены мужиком — без всяких там выкрутасов!
Возьмем тот же самый театр Дионисия. Казалось бы, самая несерьезная вещь — этот театр, а обзор из него — полгорода на ладони! Да и крикнешь, — в домах штукатурка аж сыпется, а на стенах слыхать — будто в ухо кричат!
Так что — вроде театр, а на деле — лучшего командного пункта и не найти. Самый сложный для обороны сектор — под весьма опасной горой, откуда могут бить катапульты — прикрыт всего одним офицером, — разве не гениально?!
А если мир, вместо штаба разверни здесь театр, — на последней скамье со сцены аж шепот слыхать. Да народ сюда валом повалит! Развернул сцену да греби деньги лопатой! Что ни говори, — мудрый мужик, не то что этот гад Архимед…
Я как будто очнулся. Дождь почти перестал и люди мои развели походный костер, чтоб варить себе чечевицу да полбу. Греческий старикашка суетился вокруг них, таская для парней какие-то палки да веточки. Толку от него было чуть, но… Он — невредный. Да и потом — слишком стар, чтобы стать чьим-то рабом иль горбатиться на осадных работах… Не знаю, почему — у меня всегда сжимается сердце, когда смотрю на него. У меня в детстве был дедушка. Вот также вот суетился все да пытался помочь — знал про себя, что стар уже и чересчур слабосилен… И все равно — пытался быть хоть чем-то полезным. Умер он. Перед самой войной.
А я сижу все и думаю, — вот взяли бы черномазые Рим, неужто дед мой вот так же вот — суетился бы вокруг вражьих солдат?
Иной раз кажется — нет… А другой… Солдаты — они все одинаковы. Небось большинство этих черных — так же, как мы, — не вылазят из бедности. А раз так, — наверно, накормили бы старика простым солдатским пайком… А может, и — нет. Черномазые, они всех нас, римлян, — сразу к ногтю.
Зовут ужинать. Я подсел к моему костру, взял котелок с моей чечевицей, пожевал чуток, а потом, чтоб отвлечь мужиков от грядущего штурма, попросил старика:
— Ты сказал, мы не станем смотреть все ваши трагедии, кроме одной… Расскажи-ка о ней. О чем же она?
Лицо старичка будто бы осветилось. Ему нравится быть в центре внимания, и я чувствую — в минуты сии ему верится, что это он нас — Просвещает. Но когда он завел свой рассказ, все как будто бы стихло. Даже дождь совсем перестал…
* * *
Однажды Дионисий был у Оракула и спросил у него, когда к нему придет Смерть. И пифия изрекла что-то странное, что впоследствии перевели так:
«Тебе суждено умереть, когда исполнится твое самое Важное из Желаний. Желаешь же ты Признаться в Любви. Когда возлюбленная твоя услышит его, в тот же миг ты умрешь сразу и безболезненно».
Говорят, тиран рассмеялся и поклялся никого не Любить. С той поры он держал много шлюх и чуть ли не каждую ночь спал с двумя, а то и тремя, приговаривая, что сие — верное средство.
Сиракузы к этой поре стали самым богатым и значительным городом тогдашнего мира, а в союзниках у них числилась тогда еще крохотная «Италийская лига» (в коей и состоял тогда крохотный Рим), да незнакомая никому далекая Македония. Дионисий был готов дружить с кем угодно против «демоса» и его «демократов». (Рим, как и Македония были царствами, поэтому Дионисий и считал их союзниками. Врагами же его были «демократические» Афины и… Карфаген, ибо черномазые тоже выбирали правителей.)
Но, несмотря на богатство и пышность, Сиракузы казались тогдашним грекам «захолустьем на краю эйкумены», и Дионисий выстроил свой театр. Самый дорогой, вместительный и красивый театр тогдашнего мира. Но театр невозможен без репертуара, без авторов, а Дионисий казнил всех своих литераторов!
Тогда тиран сам стал писать собственные трагедии. Он нанимал для того лучших учителей, брезгуя использовать чужой труд, но… Увы. Он был солдат, и все его трагедии неизменно проваливались.
Прошли годы. Драматург Дионисий проиграл все известные конкурсы да выступления на Олимпиадах и смирился с тем, что он не писатель. Вместо пышных трагедий да пьес, он стал писать в свое удовольствие и сам приохотился играть в своем собственном домашнем театре вещи собственного сочинения.
Однажды одну из его новых пьес увидал величайший актер того времени Мнестер, коий, согласно легенде, пал пред Дионисием ниц со словами:
— Позвольте, позвольте мне играть эту роль на Состязании в Дельфах! Там судят не только жрецы, но и простой люд, я обещаю: с этой вещью мы точно выиграем!
Дионисий не верил уже ни во что, но — ссудил Мнестеру и всей его труппе, купил им лучшие театральные маски и декорации.
В Дельфах же…
Суть трагедии Дионисия сводилась к тому, что на сцене весь спектакль был один актер (Мнестер), исполнявший роль старой женщины.
У женщины этой был сын. Непутевый, пьяница, бабник и озорник. Однажды за какое-то очередное свое безобразие этот малый пошел служить в армию (иначе бы его судили за преступление) и в какой-то нелепой войне непонятно за что был убит. Убит на глазах у всех — без сомнений. Но вот после боя тело его не нашли.
И вот теперь старая мать ждет его, веря, что ее озорник лишь прикинулся мертвым, чтобы после войны местные судьи не арестовали и не засудили его.