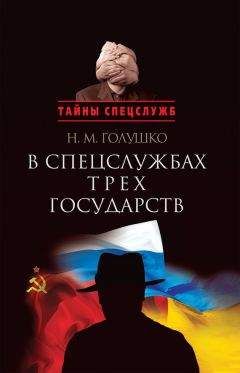— Лена, — поправил опять.
Федор задумался и выдал, когда Николай уже забыл про их разговор:
— Больше не пей.
— Гениально, — кивнул и выпил. Мила подсела, огурцы ему соленые подвинула и
улыбнулась. Коля пьяно уставился на нее. Шумело в голове, то, что тревожило,
куда-то отступило, что болело, покрылось пьяным дурманом и будто заснуло.
— Больше не пей Коленька, — попросила мягко и, не видя отторжения в глазах
мужчины, погладила его по виску, прижалась к руке.
Санин смутился, уставился в пустую посуду и кивнул, уверенный, что это Леночка
ему сказала, что она недовольна.
— Извини, — сказал мягко и послушно отодвинул кружку. У Милы сердце екнуло от
радости: вот оно, вот!
— Пойдем? — потянула легонько. — Покурим, заодно проветришься.
— Да? Да, — кивнул. Тяжело поднялся и послушно пошел за Милой.
Но покурить не дала — на улицу вышли, прижалась к нему, обняла. Санин оперся
спиной к накату, чтобы на ногах устоять, и обнял девушку в ответ, зарылся
пальцами в волосах, закрыл глаза, плывя в пьяном тумане. И так хорошо было, так
сладко, словно не было войны, не было ничего — ни смертей, ни расставаний.
Двадцать первое июня — они еще едут в поезде и вагон качает на стыках, а Коля
обнимает Лену, чтобы удержать от падения. Он не замечал, как гладит ее плечи,
трется щекой о волосы, вдыхая их аромат. Но почувствовал, как девушка потянулась
к нему, как она коснулась губ, и понял: нужен, и не устоял, обхватил ладонями
лицо, накрыл губами ее губы. Такая нежность топила его, что дрожь по телу
пробиралась. Всю бы измял ее, исцеловал, да страшно напугать девочку-несмышленыша.
— Пойдем ко мне, — зашептала она жарко, повиснув на его шеи, а он держал ее на
весу и был счастлив до без ума. — Пойдем, Коленька. Никого в землянке, девчонки
все здесь.
И он бы пошел бы, но как обухом по голове: какие землянки? Какие девчонки? Какое
"пойдем ко мне"?
Глаза открыл, отодвинул осторожно девушку, в глаза заглядывая, а они не синие —
карие. И дошло — не Лена!
— Мила? Какого черта! — отодвинул ее решительно, наорать хотел, но очнулся:
она причем, если он дурак? Головой мотнул. Снега черпанул и умылся, чуть в себя
приходя. Осипова обняла его, прильнула опять:
— Ну, чего ты? Чего, Коленька? Ведь знаешь — люблю я тебя, что хочешь для тебя
сделаю! Коленька!
Санин встряхнул ее:
— Не поняла ты ничего, да? Я тебя не люблю! Я!
— Не правда! Мы же целовались только что! Ты хочешь меня, я знаю, поняла! И
любишь! Любишь!
Черт! — выругался про себя мужчина: натворил спьяну, объясняйся теперь,
отмывайся.
— Пойдем ко мне, пойдем, — потянула вглубь окопа.
— Нет! — дернул руку. Навис над ней и прошептал с тоской. — Не поняла ты,
глупая, — не тебя я целовал.
— А кого тогда? Кого?!
Коля погладил девушку по щеке, извиняясь, поцеловал в лоб:
— Не тебя, — повторил хрипло, и пьяно качнувшись, пошел к компании. Дверь
схлопала.
Мила застонав, осела на край насыпи: сколько же можно? Что же это такое?!
— Ненавижу, — прошипела во тьму. — Лучше бы тебя убили!…
И смолкла, сообразив, что сказала. Подумала и повторила:
— Лучше бы ты погиб.
На улицу Света вышла, подкралась:
— Ну, чего? — в лицо заглянула. — Двигайте давайте в землянку, что стоишь? —
прошептала, как заговорщик.
— Ничего.
— Ну? — удивилась. — Я же вижу, Санин не против. Так веди давай, куй железо
пока горячо!
— Кончено с капитаном, понятно? — уставилась на нее Осипова. Девушка не
поверила, но насторожилась:
— Поссорились, что ли?
— Неважно, — встала Мила. Отряхнулась и улыбку безмятежную на лице изобразила:
— Как новенького зовут?
— Какого?
— Который за Сумятина.
— Аа… Скворцов Кирилл, кажется.
Осипова кивнула и расправила плечи:
— Он мне понравился!
И двинулась в землянку. Света хлопнула ресницами, ничего не понимая.
Глава 25
Зима был страшной. Партизан зажимали в кольцо, теснили, а Лена как балласт
висела на шее у отряда и никак не могла выздороветь, помочь — не то, что автомат
держать в руках не могла — ложку.
Эта беспомощность убивала ее стыдом, а жалость, что виделась в каждом взгляде,
сумятила душу, вызывая ощущение неприязни к себе самой.
Раны никак не затягивались и невозможно было лежать ни на спине, ни на животе.
В декабре она встала. Заставила себя подняться, трясясь от напряжения, и
поползла сначала до занавески, потом до крыльца, шатаясь, заставляя слушаться
непослушное тело. А его содрогалось от надсады и боли, и бунтовало, подводя. "Но
есть слово — надо", — говорила себе и заставляла пройти еще шаг, еще два.
Каждый день. И улыбаться ребятам, скрывая желание заплакать от боли, скрывая,
что больна, никчемна.
Только Ян знал, что ей стоит дойти до лавки у госпиталя и сидеть, улыбаться
бойцам, слушать их байки, находить в себе силы отвечать. Но врач молчал, не
укоряя ее, потому что знал и другое — эти усилия, на грани чуда, что она
совершает каждый день, нужны и ей и бойцам, даже если окажутся последними в
жизни девушки. Для солдат она стала олицетворением победы над самой смертью, а
это в столь сложные моменты положения отряда, дорогого стоило. Только при
перевязке просил Надю стоять рядом с нашатырем, и все кривился, понимая,
насколько больно Лене.
Раны то кровили, то закрывались струпом, а потом открывались и опять кровили. Не
хватало элементарного: витаминов, медикаментов, условий, чтобы залечить их.
Девушка чахла, то одна рана, то другая начинали загнивать.
Голодно было. Положение отряда становилось все хуже, и это тревожило.
Лене казалось, что она умирает, медленно, но неотвратимо уходит с поля боя, и
приравнивала это к предательству. Она хотела как можно быстрее встать в строй,
но организм подводил. Она испытывала такой стыд и вину перед ребятами, что
возможно эти чувства и служили ей аккумулятором действий, на их топливе она
вставала, шла, сидела у костра, улыбалась, разговаривала.
В январе она уже могла побродить по лагерю, и улыбалась не так вымученно, как
месяц назад, и даже сама держала ложку, неуклюже, тяжело, но все же. И все были
уверены — идет на поправку, и не чувствовали, что за мягкой улыбкой и понимающим
взглядом скрывается жуткая боль и слабость, не слышали, как она стонет внутри, слышали,
как надсадно
в
как надсадно ноет каждая клеточка тела, дрожит от малейшего движения, не ведали,
чего Лене стоит играть роль активно выздоравливающей. Она свыкалась с болью и
слабостью, борола их и побеждала хоть и на короткий срок.
Маленькая победа, пиррова, но Лена была рада и ей.
В один из дней к ней подошел командир:
— Смотрю, гуляешь.
— Да, бока уже отлежала, — улыбнулась бодро.
— Выздоравливаешь, значит.
— Да, спасибо. Немного и в строй.
— Посмотрим, — улыбнулся в ответ на ее улыбку, руку сжать в знак солидарности
хотел, но вспомнил, что раны, где не тронь и, лишь махнул ладонью.
— Молодец, это по-нашему.
И ушел.
Она не поняла, зачем подходил, но заподозрила, что в ней нуждаются. И
возненавидела себя, за то, что никак не могла не умереть, ни поправится.
А обстановка вокруг отряда накалялась, да и внутри отряда ощущалось напряжение.
Гитлеровцы кинули отборные войска на ловлю партизан. Росли потери. В феврале
стало ясно, что придется сниматься и уходить. Семейный лагерь уже переправляли
на другое место, но он разросся, и передислоцировать его стоило немалых сил, а
вот толку особого не было.
Лена почти физически чувствовала, как сжимается кольцо и, усиленно тренировала
руки, возвращая им подвижность и силу, чтобы быть готовой к решительным боям
наравне со всеми. Но чем больше крутила пистолет, разрабатывая пальцы, тем
сильнее слабела и болела.
Пересилить собственный организм оказалось непростым делом.