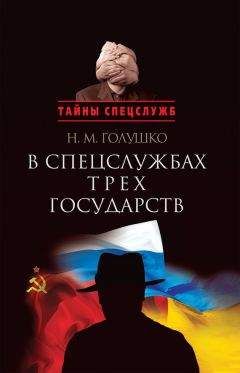Четыре отделения заняли позиции с двух сторон дороги.
Поодаль в лесу ждали телеги для раненных и резерв.
Тихо было, все напряженно вглядывались, вслушивались — не едут ли, сколько
охраны в сопровождении.
Дрозд все сжимал автомат. Его грызла тревога и ярость. Пчела ушла на задание не
вернулась, пошли четвертые сутки, как ее нет, и он боялся даже думать, что могло
случиться. За эти дни в отряд пришел новый груз из Центра, а в нем были письма.
Одно — Лене. Оно лежало в его кармане и жгло от мысли, что возможно она никогда
его не прочитает.
И может к лучшему? Но как больно.
Он вскрыл его утром и узнал, что сестра Лены еще в октябре ушла в ополчение и
погибла под Москвой.
Жуткая судьба, но еще хуже осознавать, что не единичная. Взять хоть его — что
ему осталось кроме ненависти? Больше года идет война и больше года он только и
делает, что теряет друзей и товарищей. И нет больше сил, нет возможности терпеть
это, как-то свыкаться. Душа выжжена, переполнена смертями, пеплом надежд.
И как последняя капля в чашу безысходности и опустошения — Лена не вернулась с
задания. Единственная, что как путеводная ниточка связывала его с добрыми,
светлыми днями, пусть мимолетным, но счастьем, единственная, что давала силы
верить в светлое, что заставляла любить жизнь, не смотря ни на что — исчезла.
Саша потерялся. Холодно было в душе, смертельно холодно.
На повороте показались первые мотоциклисты.
— Приготовились, в грузовик не стрелять, — еле слышно пронеслось по цепочке.
Четыре мотоцикла впереди по трое фашистов на каждом, потом грузно переваливаясь
и урча появилась крытая «тюремная» машина, а за ней еще мотоциклы.
Первый выстрел, как сигнал о началу боя, и понеслось. Никаких «ура» или ругани,
как бывает обычно в пылу боя. В этом бою немцев отстреливали как зайцев системно
и планомерно — молча. Каждый знал, что в крытой машине, каждый знал, на что был
обречен живой груз. И за это было мало просто расстрелять зверей — их хотелось
распять на весь земной шар, сравнять с землей их гребанную Германию, что
породила подобных упырей.
Все знали, что в машине, но знать и увидеть воочию — разные вещи.
Сбив замок с дверей, Костя и Петя влезли внутрь и увидели изможденные,
истерзанные тела, напиханные в клетку.
— Сами идти не смогут, — понял парень.
— Сюда!! — закричал Звирулько, призывая на помощь товарищей, но зря — те уже
итак стояли у машины в ожидании, готовые принять людей.
Вскрыв решетку, мужчины начали вытаскивать людей, помогать им спускаться на
землю. А два отделения залегли слева и справа на дороге, готовые прикрыть ребят,
на случай подхода фашистов.
Кто мог из освобожденных, помогал другим. Кто-то шел сам, кому-то помогали, кого-то
несли. Надя, специально прикомандированная к обозу для оказания первой помощи,
металась между телегами и израненными в ужасе от их вида.
— Нашатырь, спирт, бинт! Бегом! — рявкнул Саша, усадив на телегу паренька с
раной на голове и явно сломанной ногой. И опять к машине — там последних
сгружали.
— Все?
— Нет. Братья, помочь? — спросил Петя у мужчин, что не двигались — срослись
словно.
— Помоги, — бросил один глухо. Парень подошел и дрогнул от увиденного —
мужчины не уходили, потому что держали спинами женщину. Вся в крови, полуголая,
со скрюченными колючей проволокой руками, она казалась одним сплошным куском
мяса.
— Костя, — позвал глухо. Понятия не имея, как ее взять, как помочь. Дурно
стало, тошно, качнулся, в сторону поплелся к свежему воздуху быстрее, отупев
вмиг от увиденного.
— Ты чего?! — рыкнул Звирулько, не понимая, что с парнем приключилось.
— Там… это…
— Ну?! — сунулся Сашка. Глянул на Петра и вниз стянул, сам залез, бросив. — К
Наде отправь. Пусть нашатыря нюхнет.
Тагир Петю оттер, за Саней внутрь кузова залез.
— Очнись, — тряхнул парня подошедший Прохор.
— Там… я не знаю ребята…
— Привидение, что ли? — спросил кто-то из бойцов. Петр не ответил. Шатаясь
поплелся к обозу и все в толк не мог взять — как такое может быть, как можно
такое творить?!
Тагир и Дроз застыли перед мужчинами, наконец, увидев то, что потрясло парня.
— Мать твою, — протянул лейтенант.
Тагир лишь головой качнул, процедив:
— Ну, суки… ну… ну… — а слов не было. — Расступись, братки.
Саня принял женщину, на руки поднял, чувствуя под пальцами скользкую кровь, а не
кожу. Израненная еле слышно застонала и мужчина зубы сжал, чтобы не заорать от
отчаянья, ненависти к тварям, что такое сотворили. На свет двинулся осторожно,
боясь движение резкое сделать и потревожить еле живую. И первое, что увидел —
звезды выжженные в теле, как тавро, впаянные глубоко в мышцы. Одна ближе к горлу,
меж упругих холмиков грудей, черная, оплывшая, видно не раз выжигали звери.
Вторая ниже, под «ложечкой». Жуткие раны, смотреть не только страшно —
невыносимо. Кожа вся изрубцована красными, кровавыми полосами, в крови и потеках.
— Матерь Божья, — послышалось внизу.
Прохор даже отшатнулся, мужики застыли и Сашка — как спускаться понятия никто не
имел. Звирулько, белый как смерть, бросил:
— Дрозда снимаем.
Все поняли. Осторожно сняли его за ноги, за спину.
Дрозд постоял и медленно пошел, и все всматривался в лицо искалеченной, играя
желваками. Черные от крови волосы, с прогалинами седых, абсолютно белых прядей,
опухший оттекший глаз и скула, губы разбиты, отечные, по щеке бороздой царапина,
и вся в крови — лицо, шея, грудь, руки, словно мыли ее кровью.
Он не хотел представлять, что выдержала эта женщина, это было выше его осознания,
за той гранью, где начинается безумие.
Бойцы расступались и отстранялись, давая ему дорогу, смолкали, только завидев
его ношу. У Нади вовсе ноги подкосились — осела у телеги, рот зажав и в ужасе
таращась на Сашу и его груз.
Михалыч, пожилой мужчина заохал:
— Мертвая, поди.
— Живая, — выдохнул Дрозд. Пока. Но тоже был уверен — не выживет, невозможно с
такими ранами выжить.
— Молодая…
— Женщина.
— На грудь глянь — девка, вот те крест.
— Седая она!
— Так поседеешь, небось — со спины вон глянь, не иначе ремни резали упыри, — и
загнул трехэтажно.
Тагир колючку морщась с рук несчастной снял, качнулась одна рука и спала вниз,
повисла.
Сашок молча стянул с себя рубашку, расстелил в телеге:
— Ложи, — бросил глухо лейтенанту.
Мужчина и сам понял, что со спиной у женщины не лучше, чем с грудью, скользила,
словно мясо одно. Опустил осторожно. Стянул свою гимнастерку, всю в крови от
израненной, исподнее снял и стыдливо накрыл красивую, спелую грудь.
Женщина застонала, приоткрыла глаз и вдруг улыбнулась разбитыми, опухшими губами:
— Саня…
Тот чуть не рухнул — ноги подогнулись, от ее шепота. Вцепился руками в края
телеги, краска с лица спала и головой, как в припадке затряс:
— Нет… Нет! Нееет…
— Дрозд? — толкнул его Захарыч, испугавшись, что обезумел мужчина. А тот
отпрянул, за горло схватился, словно воздуха не хватало, и сообразил, что без
гимнастерки — на траве она у телеги валяется. Сашок поднял, подал, а Дрозд
отшатнулся, головой качает и шепчет одно и тоже:
— Нет! Нееет… нет, нет!
— Помутился парень-то, — бросил кто-то.
Александр обернулся: неужели вы не поняли?!
— Нашатырь дай! — процедил Тагир испуганной Надежде, не спуская взгляда с
обезумевшего лейтенанта. У той руки тряслись, на силу в сумке отыскала, сунула
мужчине.
А тот Дрозду.
Челюсти свело тут же, зажмурился… и вдруг дико заорал. Сашок ему гимнастерку
на голову одел — смолк мужчина, осел на землю и на бойцов смотрит.
— Уходить надо, Дрозд, — напомнил Прохор.
Мужчина горько усмехнулся и вдруг засмеялся до слез: уходить? Куда, зачем? Ленка