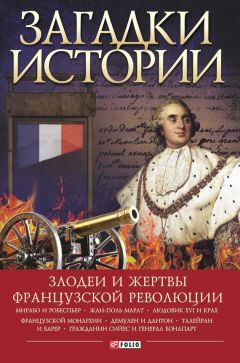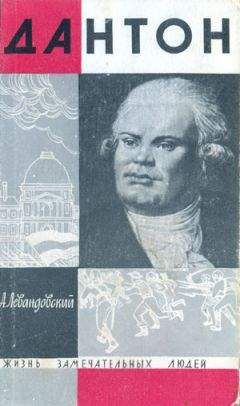Основной профессией Демулена, как и у большинства деятелей революции, была адвокатура; в 1785 году он стал адвокатом при Парижском парламенте. К лету 1789 года он был уже довольно известен, но звездный его час наступил 14 июля. Народ взволнован отставкой Неккера, по улицам проносят бюсты Неккера и герцога Орлеанского, задрапированные черным флером. «К оружию!» – звучат призывы, но где взять оружие?
И тут Демулен, вскочив на какую-то бочку (броневиков в столице тогда не было), призывает: «У нас нет эмблемы – пусть этот лист каштана станет нашей эмблемой! (И тут же близрастущие каштаны потеряли листву). Прикрепите их к шляпам! У нас нет оружия, но оружие есть в Бастилии! Вперед! На Бастилию!»
Мгновенно сорваны тысячи листьев, и народ идет на Бастилию, наступает, пожалуй, самый знаменитый из «дней» революции, день, который Франция празднует и поныне. Бастилия взята, а Демулен всю оставшуюся жизнь был убежден, что именно он был главным деятелем взятия Бастилии. И самое интересное, что он, пожалуй, был прав. В подобных обстоятельствах подобный призыв может сыграть решающую роль. Кто знает, как бы развернулись события, если б Демулен в это время оказался где-то в другом месте?
После 14 июля Демулен начинает сотрудничать с Мирабо – в его «Газете Генеральных Штатов», а затем в «Письмах Мирабо к его избирателям». Затем сам начинает издавать свою газету «Революции Франции и Брабанта», которая принесла ему не только славу, но и деньги. Но наибольшую славу ему обеспечил памфлет «Речь фонаря», написанный от имени фонаря, жаждущего, чтобы на него повесили кого-нибудь из аристократов, откупщиков, словом – тех, кто пьет народную кровь. После этого памфлета за Демуленом закрепилось прозвище Прокурор фонаря.
Упомянем об одном знакомстве Демулена.
Лето 1789 года. Он уже достаточно популярный журналист, и вот из далекой провинции, из некоего Блеранкура к нему приезжает молодой автор и привозит свою поэму «Органт». Он издал ее за свой счет и просит Демулена прорекламировать издание в своей газете.
Поэма была не то чтобы графоманская, но слабенькая, и говорить об этом никак бы не стоило, если бы не имя автора. Как вы поняли, то был молодой, еще никому не известный Антуан Сен-Жюст.
Демулен прочел и восторга не выказал, но все же исполнил просьбу. Два молодых человека сходятся, или, вернее, Демулен немного покровительствует Сен-Жюсту, вводит его в круг своих знакомых, где блистают такие яркие звезды, как Антуан Барнав или братья Александр и Теодор Ламет.
Впрочем, хотя «ультралевый» Демулен в добрых отношениях с названными мною лидерами Учредительного собрания, но для него они, пожалуй, недостаточно радикальны. Его друзья, близкие ему не только по личным отношениям, но и по духу – это Максимилиан Робеспьер и будущие жирондисты – Жером Петион, Жак-Пьер Бриссо и другие. Когда Демулен женился – а женился он по страстной любви на некой Люсиль Ларидон-Дюплесси, – свидетелями на свадьбе были Робеспьер, Петион и Бриссо.
Впоследствии Бриссо станет лидером жирондистов, а Петион – одним из виднейших представителей этой партии и первым председателем Конвента. Пути их решительно разойдутся, Демулен будет с пеной у рта требовать суда над жирондистами, а Робеспьер отправит на гильотину и жирондистов, и Демулена. Но это будет не скоро, через три года – колоссальный срок в период Революции. Пока же все они добрые друзья и единомышленники.
В 1791 году Национальное собрание распущено и происходят первые регулярные выборы в первый «нормальный», а не экстраординарный парламент – Законодательное собрание. Условия для Дантона и Демулена вроде бы выгодные, поскольку бывшим депутатам закон запрещает избираться.
Но это им не помогло: ни тот ни другой не попали в Собрание. Момент был неудачный. То было после бегства короля и расстрела демонстрации на Марсовом поле, власть применила силу, и на время ей это помогло: Франция отшатнулась от радикалов. И Законодательным собранием руководят другие люди – Бриссо, Верньо, Гюаде – те, кого позже назовут жирондистами. Они тоже радикалы, но несколько иного пошиба, и отношения между ними и будущими монтаньярами – Робеспьером, Дантоном и другими – начинают портиться.
Между тем вакуум власти в стране никуда не исчез. Законодательное собрание уважают, но его не слушаются, министров – тем паче. Развалившаяся летом 1789 года армия по-прежнему не существует как боевая сила, потому что прежде чем выполнять полученные приказы, солдаты будут решать: а не изменники ли их отдавали? Следовательно, нет никакой силы, способной усмирить вспыхивающие то там то здесь бунты. Толпа и левые в Законодательном собрании требуют сменить министерство и назначить «министров-патриотов».
Итак, к августу 1792 года назрело новое возмущение, которое сметет не только короля, но и Конституцию 1791 года… вместе с ее творцами. Позже говорили, что в 1793-м пощады не было четырем категориям: богатым, дворянам, священникам и конституционалистам.
Десятое августа – звездный час Дантона. Именно он руководил событиями, был главным виновником свержения короля и, тем самым, установления Республики. Затем он пожинает плоды победы: становится министром юстиции, то есть главой правительства. Фабр и Демулен становятся секретарями министерства, получают места также Паре, Бийо-Варенн; предлагали место и Робеспьеру, но он отказался. Незаметный парижский юрист Фукье-Тенвиль пишет Демулену, ссылаясь на дальнее родство, и по его протекции получает место в новом суде. Дантон в эти недели очень активен, он единственный из министров на высоте положения. Во времена революций руководит тот, кто хоть что-то умеет, Дантон как раз и умел «хоть что-то», в отличие от большинства своих коллег. Фактически он руководит тремя министерствами: своим, иностранных дел и военным.
Много лет спустя старый король Луи-Филипп охотно вспоминал, как сорок или пятьдесят лет назад он – тогда юный герцог Шартрский, офицер французской армии – прибыл в Париж решить какие-то вопросы с военным министром. Военный министр ничего решить не мог, то ли потому что был болен, то ли потому что был бестолков. Дантон, постоянно появлявшийся в военном министерстве, встретил герцога, велел ему «не иметь дела с этим дураком» и прийти к нему завтра в министерство юстиции: он, мол, все уладит. И действительно уладил.
Когда вскоре от министров потребовали отчета в истраченных суммах, министр внутренних дел Ролан отчитался до копеечки, а Дантон сделать этого не смог. Но репутацию он себе этим не испортил: все знали, что деньги Минюста шли и на дипломатию, и на войну.
Десятое августа как будто примирило также и левых – Дантона, Робеспьера – с жирондистами. Когда ставили на голосование кандидатуры министров, Фабр д'Эглантин спросил лидера жирондистов Бриссо: «Патриоты хотят ввести Дантона в министерство, будете ли вы возражать?» – «Напротив, – ответил Бриссо, – это скрепит наше примирение».
Возможно, примирение и состоялось бы. Но тут произошли сентябрьские убийства.
Свержение и низложение короля, как и следовало ожидать, не улучшило ситуации на фронтах. Враги наступают, новорожденная Республика в опасности. Что же – все на фронт? Но толпа решает: сначала надо покончить с «аристократами», которые сидят в тюрьмах – не то они оттуда выскочат и устроят контрреволюцию.
Последовала резня в тюрьмах; за два дня было убито, как уже было сказано ранее, около двух тысяч заключенных. Франция была возмущена; жирондисты, вместе с большинством граждан, потребовали наказания убийцам и их вдохновителям – Марату и Дантону.
…В действительности это было не совсем так. Да, Марат много писал о необходимости казней (вначале он требовал нескольких голов, потом его аппетиты росли, он настаивал уже на тысячах, потом на десятках тысяч казней), но прямо он к сентябрьским убийствам не призывал. Дантон же, громогласно рассуждая в те дни о великом и справедливом правосудии происходящих «судов Линча», одновременно обеими руками подписывал, подписывал, подписывал… что?
Как министр юстиции, он подписывал свидетельства о благонадежности и выпускал на свободу разных сидевших в тюрьмах «подозрительных», в том числе и своих личных врагов[36]. Дантон великолепно разыгрывал из себя льва революции, но он не был ни кровожаден, ни мстителен. Несколькими месяцами ранее, незадолго до 10 августа, он так же грохотал в клубе якобинцев, требуя, чтобы короля заставили развестись с «распутной королевой» и выслать ее в Вену, что, как легко понять, спасло бы ей жизнь. Дантон был не слишком честным человеком, он не был разборчив в средствах, но не был кровожадным.
Но факт остается фактом: он настаивал на необходимости «народного правосудия». «Звон набата, который раздается, – грохотал Дантон с трибуны, – это не сигнал тревоги, а призыв к борьбе с врагами отечества. Чтобы победить их, нужна смелость, смелость и еще раз смелость, и тогда Франция будет спасена!»