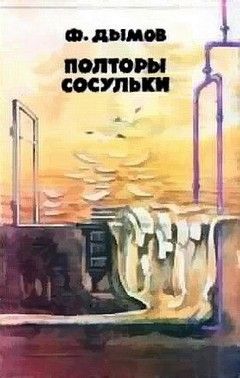В пять часов утра под чистые звуки труб, игравших "сбор", и барабанный бой началась высадка русских в Галлиполи.
На пристани стоял конвой из рослых сенегалов, одетых в желтые мундиры. Они добродушно пялились на чужую армию, не понимая, что в ней грозного и почему французские офицеры так обеспокоены.
Было холодно и ветрено.
Русские смотрели на выстроенных детей природы, вспоминали ушлых кубанцев, которые исхитрились продать кому-то в Константинополе целую батарею, и, догадываясь, что очутились в дыре, подбадривали друг друга, обращаясь к сенегалам:
- Ишь, как вытаращился, сережа!
Почему-то чернокожие стрелки были окрещены "сережами", и это прозвище мгновенно прижилось, ибо для них не было в русском языке нужного слова.
Артамонов и Пауль шли в хвосте колонны. После того, как Пауль помог Артамонову погрузиться на пароход вместе с его полком, миновала целая вечность, и Артамонов не раз пожалел о том, что не остался в Крыму. Ведь гражданская война кончилась, и вряд ли победители будут мстить побежденным. Вот даже Главнокомандующий не стал жечь склады, оставил красным. Конец войны освобождал всех от тяжелого креста добровольчества. Теперь надо было по-новому думать о службе родине и искать свой путь.
Но как пережить казнь двух человек? Артамонов, знавший Кутепова еще по боям под Таганрогом, был потрясен. Изверг! Убить людей за ничтожное опоздание! Какой в этом смысл? Показать свою власть? Определить ее возможности? Произвести впечатление на французов?
- Зато сразу - каленым железом, - ответил на его сомнения Пауль. Кутепов - это не аристократ Врангель и не интеллигент Деникин. Этот из тех русских, кто шел с Ермаком покорять Сибирь. От таких мы отвыкли - разные Платоны Каратаевы и прочие выдуманные персонажи мешают нам прямо посмотреть на вещи.
С такими противоположными мыслями штабс-капитан и прапорщик сошли на турецкую землю и подчинились судьбе. В Галлиполи, как ни чудно, бухта называлась Кисмет, то есть "рок, судьба". Что-то таилось за этим совпадением. Какая судьба?
Два полка были оставлены в городке и стали размещаться в полуразрушенных казармах, но большинство, получив паек и палатки, двинулись строить лагерь. Семь верст люди едва влачили ноги, таща на горбах тяжелые госпитальные палатки-бараки и маленькие типа "марабу", а также кирки, лопаты, пилы, топоры. Даже небольшая группа "железных" офицеров шла молча, не старалась никого ободрить. Предчувствие небывалых испытаний теперь, казалось, надламывало самую душу армии.
Добрались в долину и устраивались ночевать под открытым небом.
Пауль набил матрас тростником, росшим в устье речушки. Артамонов спал же прямо на земле, кинув под себя шинель. Так спали многие. Сила людей уходила без остатка лишь на общие работы, а там, где касалось личного, руки опускались. Белая идея умирала. Все, что было дорогого, разрушилось.
Еще не родилось открытого призыва признать прошлое кровавой ошибкой, но все чувствовали, что прошлое перестало быть героическим. Требовалось сменить вехи.
Неизвестность, уныние, страх душили полки.
- Ты не заболел? - спросил Пауль Артамонова. - Давай матрас, я набью тростником. А хочешь - можно водорослями.
- Пустое, не надо, - отмахнулся штабс-капитан.
Однако Пауль не послушался и собрал для него тростник.
Вечером они улеглись, Артамонов ворочался на хрустевшем ложе, ворчал на Пауля за то, что тот забрал его сюда, а не бросил в Севастополе.
Пауль не отвечал.
Они располагались посредине двадцатиместной треугольной палатки. Дул ветер. Брезент натягивался, хлопал. В углу кашлял простудившийся поручик Лукин, у него был жар.
- Надо делать кровати, - сказал Пауль. - Иначе подохнем.
- Туда и дорога, - вымолвил Артамонов.
Утром Лукин стал совсем плох и не поднялся. Взводный командир Ивахно постоял над ним, ничего не выстоял и велел накрыть его второй шинелью.
- Может, священника? - предложил кто-то.
Но принесли паек, и про Лукина на время забыли, положив рядом с ним хлеб, консервы и крошечный, размером со столовую ложку, кулек сахарного песка. Еще причиталось к выдаче на руки двадцать граммов кокосового масла, но его на во что было отлить.
Все видели: французский паек нищенский. На пятьсот граммов хлеба и двести граммов консервов разве проживешь?
Да и ради чего жить?
Впрочем, генерал Кутепов решил помочь безучастным людям и приказом по корпусу велел всем сделать кровати. Отныне надо было заботиться о своем здоровье, не забивать голову ненужными сомнениями.
Командование приказывало: живи! Строй печки в палатках, строй полковые церкви и собрания, грибки для часовых, навесы для знамен...
С каждым часом лагерь преображался, управляемый властной жестокой силой. Эту силу большинство ненавидело. Но была ли другая, способная спасти?
Вечером Артамонов и Пауль возвращались с гор, таща на спинах толстые сучья и ветки. С холма была видна вся долина, усеянная белыми и зелеными палатками, а дальше - Дарданеллы и фиолетовые горы на том берегу. Вырвавшееся из-за туч солнце отражалось в серебряном блеске пролива.
Несколько чередующихся картин заканчивались вдали освещенными золотистыми облаками, и возникало чувство бескрайнего простора.
- Как у нас, - сказал Артамонов. - Вот так едешь по дороге, да вдруг откроется такая даль, холм за холмом, и все выше и выше... Зеленые елки, желтые поля, небо... - Он помолчал и воскликнул: - Не жилец я здесь! Не выдержу.
Пауль тоже любовался пейзажем, но думал по-другому. Он стал уговаривать товарища смирить гордыню и подчиниться долгу, ведь здесь, далеко от России, вокруг нас возрождается все та же Россия, мы не эмигранты, мы остаемся русскими.
- Эх, Пауль, Пауль, мало нас терзали! - вздохнул Артамонов.
- Ну поглядим, чем это кончится... Ты веришь, тебе легче. А у меня предчувствие, что мне уже отсюда не уйти.
- Втянешься, привыкнешь, - сказал прапорщик, требовательно-ласково глядя на него единственным глазом. - Россия ждет, что мы исполним свой долг.
- Ладно, пошли, - вымолвил Артамонов. - Все наши увечные остались в России...
Они миновали хутора Барбовича, как называлось расположение кавалерийской дивизии, и вернулись в лагерь. Можно было перед ужином умыться и почиститься.
В полутемной палатке, освещенной лишь слабым светом из целлулоидного окошка, возились, сооружая кровати, несколько человек. Лукин лежал тихо. Пауль подошел к нему, прислушался, потом потрогал за плечо. Тяжесть мертвого тела отдалась в его руке. Пауль накрыл покойника с головой, встал, перекрестился. Рядом лежал нетронутый паек.
"На что ему паек? - мелькнуло у прапорщика, но он испугался этого жалкого желания и отодвинулся. - Первый покойник. И никому нет дела".
Пауль крикнул:
- Эй, Лукин умер!
Подошли, посмотрели. Сказали, что надо доложить взводному.
Пауль выглянул наружу. Где Ивахно? Вблизи палатки его не было.
Из-за соседней палатки слышался сильный командирский голос, дающий кому-то распеканцию. Пауль заколебался: идти туда или обогнуть палатку. Но простодушно решив, что ему, как вестнику смерти, не страшен никакой начальник, пошел на голос.
Кутепов! Там был Кутепов.
С ним генералы Витковский, Туркул, Пешня и однорукий Манштейн. Все глядели на взводного Ивахно, кто с сожалением, кто с презрением.
- Вы прежде всего офицер, поручик! - говорил Кутепов. - Вы боролись за право и культуру... Сдайте взвод!... Приведите свой мундир в порядок!..
Ивахно стоял по стойке "смирно" в своем испачканном глиной мундире и, вскидывая голову, пытался что-то возразить, но не успевал.. Кутепов не позволял ему оправдаться.
- Только смерть освободит нас от выполнения долга, - заключил командующий.
В голове Пауля при слове "смерть" вспучилась боль. Он вышел из-за палатки и обратился к Кутепову, сообщив, что во взводе Ивахно умер поручик Лукин.
Генерал повернулся к Паулю. Перед ним стоял юный прапорщик с обезображенным лицом и закрытым, пустым левым глазом, одетый в такой же грязный мундир, как и поручик Ивахно.
- Кто умер? - спросил Кутепов, прищуривая маленькие глазки. - Почему?
- Поручик Лукин, ваше высокопревосходительство. От усталости.
- Знаем эту усталость! Небось, спал на земле. - Кутепов повел бородой, кивая Витковскому. - Опустились! Забыли свой долг! Хотите к Богу?
Пауль почувствовал, как страшен этот человек, который даже в смерти не признает оправдания.
- Я не дам вам умирать легкой смертью! - продолжал Кутепов. - Ваша жизнь принадлежит России. Не Богу, а России!
- Я тоже так считаю! - перебил его Пауль.
Из-за спин генералов вышел священник в серой рясе и сказал Кутепову:
- Разрешите, я займусь покойным.
- Что? - спросил Кутепов.
Священник был небольшого роста, с крупной головой, на груди'' георгиевская медаль. По сравнению с Кутеповым он казался выходцем из довоенного мира, когда жестокость еще не стала обыденной.