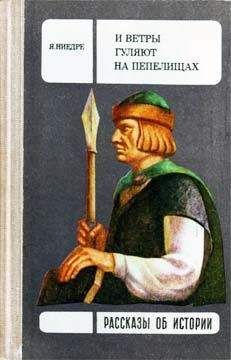Нынче описывать происходящее может осмелиться разве что сам игумен, либо пустынник, живущий среди зверей, отрешенно от людей. Нынче это так.
Но Юргис не в силах был удержаться не писать своего. Потому что нужно ему было высказать неутешную боль сердца, рассказать о судьбе родной земли, и нельзя было заменить это ни молитвой и постом, ни епископскими и настоятельскими поучениями. На клочках пергамента, что удавалось сберечь из отпущенных для переписывания листов, или же на кусках бересты Юргис должен был запечатлеть все, что знал о латгалах, селах и других племенах у Балтийского моря с того дня, как пристали к ерсикскому берегу погребальные лодки, как умер мучительной смертью в темнице правитель Висвалд. Записать, что произошло после того, как Юргис оставил родину.
Порою возникало него чувство, что он снова в руках тевтонских прислужников и, связанный, опутанный веревкой, ковыляет за лошадьми стражников по дороге в Круста Пиле. И что за спиной его укрывается некто, беспрестанно шепчущий на ухо: «Не быть тебе свободным, пока не напишешь повесть о своем времени».
Да, под рукой Симеона Новгородца переписчик книг Юргис, сын поповский из Ерсики, украдкой пишет в стенах Полоцкого монастыря заветное, свое.
Пишет славянскими буквами, но на понятном соотечественникам и, надо надеяться, доступном для будущих поколений языке. Как знать, может быть, окажется среди читателей и его, Юргиса, потомок. «У меня будет сын от тебя…»— сказала Марша.
В часы ночной бессонницы, когда к перемене погоды — к дождю, к метели или к зною — все члены тела, старые шрамы терзает боль, что свирепей разъяренного пса и которую нельзя унять ни отваром кореньев, ни нагретым камнем, обернутым в тряпицу, ни молитвами, — Юргис, метаясь в бреду, порой видит стройного парня с льняными волосами. Сына своего и Марши, сына, возросшего в далекой земле отцов.
Юргису кажется, что Марша выжила. Осталась жива в час гибели поселения. Проходившие Ерсикской землей торговые гости рассказывают: правители округов в пределах бывших земель Висвалда порой обмениваются захваченными у соседей пленниками и похищенными людьми, иногда целыми общинами, которые поселяют в опустошенных местах, среди чужеплеменных. Правители замков — немцы и породнившаяся с ними местная знать — уже сколько времени для усмирения людей обмениваются жителями своих поселений.
Как оклик с другого берега, — раздалось под церковными сводами заключительное «аминь». Склонились головы в черных скуфьях, взметнулись руки в широких черных рукавах, совершая крестное знамение, губы зашептали церковные словеса, издавна звучащие при богослужении. Потом монахи расступились, пропуская священника, и вышли вслед за ним.
Оказавшись вновь в своей келье, Юргис затеплил свечу, перелистал исписанные страницы Евангелия, ожидая, пока снаружи не воцарится полная тишина. Тогда, прикрывая свет, подошел к тайнику, где хранились его писания. Вытащил свободный кирпич, пошарил в углублении, извлек несколько берестяных и пергаментных свитков. Развернул один из них. Стал читать.
«Когда здешние жители стали выращивать яблони, саженцы самых сочных они сажали на могилах предков. Чтобы деревце росло под покровительством ушедших, пока не созреют плоды, не упадут на землю, не расколются и не вытечет из них сок — для лакомства предков…»
«В 1237 году католический епископ присоединил разбитый в битве при Сауле Орден меченосцев к Тевтонскому ордену. Орден стал подчиняться самому архипастырю католической церкви, папе римскому. В дальнейшем миссия христианского слова в балтийских землях была заменена миссией меча…»
«…В давние времена у границ латгальских земель сошлись дороги на восход и закат и обратно. При проходе и проезде торговых людей в замках Герциге копился подаренный Балтийским морем янтарь. Местный люд янтаря не ценил подобающе и продавал в далекие земли. Отдавал и менял за белую и красную медь, за звонкое серебро и другие пригодные для ковки металлы. Меди и серебра в Герциге скопилось весьма много. Обитавшие в Риге кривичские торговые гости рассказывают: только из Висвалдова наследства немцы собрали в замках и городах триста пятьдесят горшков чистого, еще не обработанного ремесленниками, серебра. И воз мешков с раковинами каури, пришедшими через руки арабов с берегов жарких полдневных морей; раковины эти латгалы и селы называли головками священных ужей…»
«…В ерсикских замках крепкое питье хранили в глиняных сосудах — амфорах, привезенных с берегов Черного моря…»
Нет, эти обрывки не для летописи. Книга времени должна быть повествованием о величии отчей земли, о вторжениях захватчиков на родные, унаследованные от прадедов просторы, о нашествиях Черной Матери, о засыпанных песками бедствий колодцах и источниках чистой воды.
Книги времени должны возникать из повествований о дружеской общности соседей, о мирном житье, об укреплении границ родных земель (как поется в песне: «Лучше голову сложу я, чем отдам я землю предков»); в них надо сказать и о силе, что сплотит и латгалов, и селов, и других прибалтов, сплотит людей, разбросанных по тайным лесным укрытиям, чтобы не уставали они валить лес, строить риги, амбары и клети, ставить срубы вновь вырытых колодцев на дотла выжженных войной землях по обе стороны Даугавы, Лиелупе и других латавских рек. Та сила должна быть совсем иной, чем молитвы православной или католической церкви о помощи всемогущего, о содействии церковных чудотворцев.
Юргис снова пошарил в узкой нише. Извлек еще несколько свитков. Развернул один, другой. Читал и перечитывал.
«Тевтоны, отцы римской церкви, объявили: „Земля-кормилица находится во власти правителей, как небо — во власти всемогущего. Все, что есть под небом, есть от бога. И правители суть от бога. Поэтому правители наделены властью поступать с землей по своему усмотрению. Отбирать у одного, давать другому, делить и переделять. Правителям дана власть отдавать в ленное владение нивы, пастбища и сады и воинам, и слугам церкви. Чтобы те передали ее для обработки двуногому яремному скоту, который будет пахать, сеять, жать и плодами земли содержать правителей и их войско, монахов и священников, кои молят бога, пресвятую матерь божию и всех святых“.
„…После крещения кунигайта литовского Миндовга Ливонский орден частично прекратил воевать с Литвой. Но все же удержал Жемайтию. Тогда часть литовских кунигайтов восстала против Миндовга, но была разбита“.
„…В 1262 году литовский кунигайт Миндовг подписал клятвенный договор с русским князем Александром Невским, одержавшим победу на Пейпус-озере, Оставшийся верным отчей земле ерсикский люд стал приносить божествам предков в священных рощах троекратные жертвы. В надежде на то, что вскоре тевтонов и их лизоблюдов изгонят из городов и селений, что рухнут их замки на Даугаве, И что людям Ливонского ордена воздастся той же мерой, какой они отмеряли защитникам Ерсики, То есть пленных тевтонов бросят в подземные темницы, сгноят в подвалах замков. Пламя пожрет немецкие укрепления в Ерсике, Науйиене, препятствующие латгальским ремесленникам и торговым людям свободно держать путь к Балтийскому морю и к русским городам в верховьях“.
„…В 1256 году магистр Ливонского ордена. Людвиг договорился с рижским архиепископом и получил для ордена третью часть Ерсикского замка. Северный Царьград — Ерсика была уже полностью восстановлена и впредь будет считаться совместным владением архиепископа рижского и Ливонского ордена. Хотя и построенная из бревен и обнесенная земляными валами, Ерсика остается мощным сторожевым бастионом на Даугаве также и против литовцев, владеющих ныне Полоцком, Однако тевтоны дрожат от страха при мысли, что литовцы могут в любой миг обратить свое войско против Ерсики, и тогда знать бывшего государства Висвалда переметнется к литвинам, станет вассалом Литвы. Ибо сказано в писании: если кто однажды предал своего господина, тот предаст его трижды“».
Юргис развернул еще один берестяной свиток, исчерканный острой стекляшкой прямоугольник. То были его попытки приспособить славянские письмена для латгалов, уподобляя их узорным знакам, принятым, у ерсикских ткачих и вышивальщиц.
Возвратившись из Ерсики в Полоцк, Юргис узнал, что книжники и их ученики в киевской Софийской церкви стали делать на каменных стенах надписи о происходивших событиях, пользуясь переиначенными на русский лад греческими буквами. Чтобы написанное могли прочесть и люди, не очень смыслящие в грамоте. Юргис вспомнил старую Валодзе, ее вязания и узоры. Поскольку времени у него тогда было в избытке (Симеон Новгородец только еще начал доставать пергамент для евангелий), Юргис, уединяясь в отведенной для работы келье, стал сличать греческие литеры с узорами, которые видел на сагшах Темень-острова, в Бирзаках и селении Целми. Пробовал записать то, что когда-то поведала сказительница Ожа с Темень-острова, разматывая свой пояс — песнопение латгалов и селов о небесной горе: