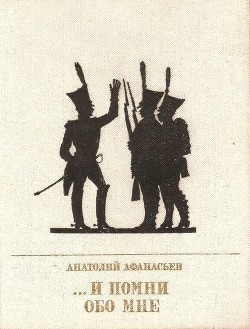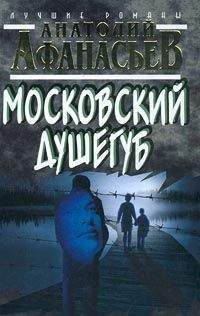Сухинов был осторожен. Свой план он считал вполне осуществимым, но главное — удачно начать, вовремя запалить фитиль. Многое зависело от состава боевой группы. При каждом удобном случае Сухинов заговаривал с каторжанами, прощупывал их. Все не те попадались — отребье, пьянь. Многие, он видел, готовы продать душу черту ради глотка вина, но за ту же цену они могли продать и отца с матерью. Несколько человек вроде бы казались получше других, позлее, пожестче, но тоже — все не то, не то. На худой конец, годились для рукопашной. Был и другой немаловажный вопрос: поверят ли каторжники Сухинову, как-никак бывшему офицеру, чуждому для них человеку? Нужен был вожак из их среды, надежный и разумный мужик. Может быть, сгодился бы Аксений Копна, но его здесь еще плохо знали, да и что-то он быстро начал чахнуть, опускаться. Сухинов никак не успевал поговорить с ним с трезвым. Он уже начинал приходить в отчаяние, когда случай свел его с Павлом Голиковым.
И как он его раньше не приметил? Такого раз увидишь — пять ночей будет сниться. Сухинов в сумерках домой возвращался и вдруг видит у дороги — не то дерево погнутое, не то леший. Оказалось, человек. Сидит прямо в снегу дюжий мужик, портянку размотал и ногу разглядывает, загнув близко к роже. Сухинов замедлил шаг, поостерегся. Мало ли. Каторжники — народ вострый.
Мужик ногу в обувку запихал, поднял лохматую, лешачью голову.
— Здорово, прохожий!
— Здравствуй, любезный! Ты чего здесь расселся? Не подморозишь зад-то?
Мужик не ответил. Взгляд из-под кустистых бровей — влажный, недобрый, прямой. Сухинов отвык на каторге от таких взглядов. Так каторжане только в спину умели смотреть. Наконец мужик сказал:
— Это ты, значит, винишком всех потчуешь?
— Не всех, а кто по душе.
— Так меня угости.
— А ты кто?
— Бывший фельдфебель карабинерского полка Павел Голиков. Ныне из списков всяческого сословия вычеркнут. Про тебя не спрашиваю, знаю. Ты поручик Сухина, который на царя-батюшку вздыбился. Чего это ты на него так осерчал? Он ведь не нами придуман.
— А ты его любишь?
Голиков коротко хохотнул.
— Много спрашиваешь, барин. Угости, тогда спрашивай.
Голиков со снега не подымался, круг под ним подтаял, подернулся темной каймой. Слова цедил он нехотя, точно напрягался и томился от необходимости слов. Он не просил, он вроде требовал. Положенного требовал. Верное предчувствие, как тиски, сдавило грудь Сухинова. Неужто зверь сам на него вышел? Он сделал то, чего прежде не делал. Он знал, что товарищей дома нет, они придут не раньше чем через час.
— Вставай, фельдфебель, — сказал он мягко. — Пойдем в избу, чего на холоде торчать.
Очень важно было Сухинову, что Голиков на это ответит, как себя проявит. Голиков ответил с достоинством, как бы давно ожидал приглашения и сетовал на Сухинова, что тот время теряет.
— Оно конечно, — сказал он. — В избе приятнее.
Сухинов усадил гостя за стол, принес из сеней кусок вяленой рыбины, поставил стаканы, штоф. Голиков следил за приготовлениями с одобрением, заранее обтер руки о штаны. Сухинов молча разлил водку, себе на донышко, гостю — полную чашу.
Он следил, как Голиков пил: без суеты, неспешно, чисто, аккуратно. Допив до дна, облизнул усы.
— Хорошо, барин, ей-бо, хорошо! Самый бы раз по второй. Чтобы, значит, застоя не получилось в брюхе.
Сухинов налил. Голиков повторил все движения до тонкости. Единственно к обряду пития прибавилось, что слегка аппетитно крякнул. Взгляд его смягчился, какая-то забавная искра в нем всплыла. Похожая на блик по воде.
— Уважил, поручик! Спаси тя Христос!
Что за человек к нему пожаловал, Сухинов уже понял. Солидный человек. Не мелюзга.
— Ешь рыбу, фельдфебель! — сказал он. Голиков понимающе усмехнулся, кивнул, но лицо его еще ни разу не осветилось хотя бы подобием улыбки. Сухинов и сам давненько с охотой не улыбался. Голиков разломил и разорвал тугую смерзшуюся хребтину с такой легкостью, точно это была бумажка. В его руках дремала чудовищная сила, которую он расходовал бережно, с толком. Сухинов им любовался. Он смотрел на него ласково, как на друга. И голос его прозвучал участливо.
— Как же ты очутился на каторге?
Голиков тщательно пережевывал маленький кусочек рыбки.
— За беспечность свою пострадал. Хрястнул одного из ваших разок, а он после возьми и очухайся. Я глазам не поверил, когда его увидел в живом обличье. Эх-ма!
— А за что ты его?
— За что? За притеснения. За что еще. Такой ведь ледащий был офицерик, однако оскотинился вконец. Дружка моего Данилку Хмурого насмерть засек. Кровь очень любил глядеть. Ну, я и не стерпел. Думаю, любишь кровушку — свою полижи… Я, Сухина, его в лоб вот этим… — Голиков вежливо издали показал пудовый кулачище. — Нагнулся еще над стервой, где там! Кажись, мозга из ушей торчит… Повернулся и прочь, к себе в казарму. А утресь ко мне вестовой. Прихожу в штаб, а там этот покойник, правда на себя не похожий, на лавке сидит. Меня узрел — и в окошко со страха заскребся. Еле его удержали… Да, все беспечность наша, корень ей в зубы. Мало меня батя сызмалу колотил, от лени отучал. Он мне, и теперь помню, всегда говорил: «Любое дело, Паша, надобно доводить до конца!» Я не довел, теперь здесь обретаюсь.
Подействовала водка, размягчился Голиков. Потянулся еще за стаканом, Сухинов плеснул. Ему не терпелось начать разговор о главном, он уже в Голикове не сомневался. Да, это тот, кто нужен. Это — вожак. Человек, от природы облеченный властью над людьми. Важно повернуть его власть на правое дело. Как свободно он держится, как независим. Рядом с ним даже Сухинову не по себе, хочется посторониться и уступить. Было бы в чем. Но богатырю ничего не требуется. Водки выпил и еще сейчас выпьет, рыбки пожевал — чего больше. Как он безмятежно сидел в снегу!
— Крепкий ты, видать, мужик! — сказал с искренним восхищением Сухинов.
— Бог не обидел. Ты-то тоже, я гляжу, не из немощных.
Хотелось Сухинову заговорить о главном, и все к тому шло, что можно заговорить, но стерегся: ох, немыслимо важен первый шаг, а перед тем шагом — первое сказанное слово. После ошибешься — ничего, поправимо. Сразу, с первого шага не туда ступишь — прощай, свобода, прощай, жизнь, прощай, удача! Но уж до чего хорош Голиков! До чего спокоен и свиреп. Три стакана выпил — багрянцем запылал.
— Боятся тебя каторжные, уважают? — спросил Сухинов.
— Чего меня бояться, я зря не обижу.
— А если не зря?
Голиков ворохнул плечами, глянул с такой жутью, что и ответа другого не потребовалось. До самого прихода Соловьева и Мозалевского тянулся между ними, неторопливый разговор. Сухинов сходил за вторым штофом. Голиков не пьянел, но все более наливался жаром. Он смотрел и слушал Сухинова внимательно, но без особого интереса. Оживился немного, когда тот начал расспрашивать, есть ли на руднике бесстрашные люди. Тут Голиков проявил любопытство. Да так, что Сухинов опешил.
— А тебе зачем про других знать, Ваня?
— Да так — ни за чем.
Впервые слабо улыбнулся Голиков. Такая это была улыбка, что лучше бы ее никому не видать перед ночью.
— Я тебе так объясню, Ваня, — добродушно заметил Голиков. — Вот ты меня угощаешь — спасибо тебе! Но ведь ежели у тебя на уме худое, мне все одно — ты ли, другой. Охнуть не успеешь!
— Успею! — ответил Сухинов. Услышав угрозу, он на мгновение потерял самообладание, забыл, кто перед ним и зачем они сидят за столом. Черные злые молвой полыхнули из глаз, рука нервно задвигалась. Голиков все это приметил, отстранился.
— Ну, ну, Сухина! Не вздымайся, — и вдруг захохотал доверчиво, открыто. — А нравишься ты мне, ей-бо, нравишься! Это ж надо, как глянул. Наповал! Нравишься, Ваня! Чего только хочешь, скажи?! Говори, не сомневайся!
— Потом скажу, в другой раз…
И на этом самом месте вернулись друзья. Увидели гостя — поздоровались. Удивились, но виду не подали. Голиков сразу поднялся, молча поклонился, ушел.