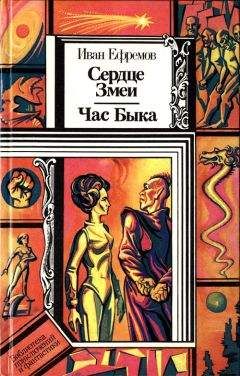Страшно было бы ему увидеть вместо царя Ахенатона, Радости-Солнца, несчастного безумца, но страшнее было то, что он увидел: человека разумного и счастливого.
— Жизнь, сила, здравье царю! — начал он, но голос его пресекся, колени подогнулись, и, повалившись в ноги царю, он заплакал.
Царь наклонился, обнял его и сказал:
— Полно, Маху, не плачь. Мне хорошо здесь…
И, помолчав, прибавил:
— Лучше здесь, чем у вас.
Маху все еще вглядывался в него с надеждой увидеть безумца; но не увидел, и вдруг показалось ему, что он сам сходит с ума.
— Что ты говоришь, что ты говоришь, государь! Лучше тебе здесь, среди воров и убийц, чем у верных слуг твоих?
— Лучше, Маху. Брат мой, любишь ли ты меня? Знаю, что любишь. Сделай же, о чем попрошу: никому не говори обо мне и отпусти.
— Видит Бог, Уаэнра, душу мою отдал бы я за тебя, но легче мне тебя убить, чем оставить здесь!
— Убьешь, если не оставишь, — сказал царь, опять наклонился к нему, обеими руками обнял голову его и заглянул ему в глаза с мольбой.
Маху сказывал потом: еще бы минута, и он бы не вынес, лишился бы рассудка, ушел и оставил царя. Но тот сжалился над ним.
— Не можешь? — прошептал, как будто задумавшись, и посмотрел на него так, что сердце в нем опять истаяло, как воск. — Ну что ж, нечего делать, пойдем!
Вышли из рубки на палубу. Царь сел в носилки. Воины подняли его и понесли во дворец.
Дио проснулась, открыла глаза и увидела: тусклое золото пальмовых листьев в венцах столпов уже серебрилось в голубоватом свете утра, а мерцающее пламя ночника все еще краснело на бледно-зеленых, остроконечных, как у прорастающего лотоса, листьях в подножьи столпов; и в середине их, с изображеньем бога Атона, простершего детские ручки-лучики над царской четой, оба света сливались.
Дио лежала на полу, на шкуре пантеры, между двумя ложами: царица спала на одном, а другое, царя, было пусто. Дио подняла голову и взглянула на спящую: тихо спит, дышит ровно; только иногда тонкие брови чуть-чуть вздрагивают, как мотыльковые усики, и между ними углубляется морщинка, как будто спящая и во сне о чем-то упорно думает; бледное, с черною, до половины щеки, тенью ресниц, лицо прекрасно, несмотря на страшный след болезни.
Дио вглядывалась в нее, и ей казалось, что это не она, а он: так похожа была, особенно во сне, жена-сестра на мужа-брата.
С края ложа свесилась прозрачно-бледная, с голубыми жилками, рука. Дио прикоснулась к ней губами легко, легче ночного веянья, и опять почудилось ей, что это не ее, а его рука.
«Двое одно, — думала она. — Как же могли они разделиться? Как мог он уйти от нее? Что с нею будет, что будет с ним?»
Уезжая, он сказал ей, что едет к Хоремхэбу, наместнику Севера, чтобы убедить вступить его на престол. Отреченье, освобожденье от царства, тягчайшего ига, было всегда мечтою царицы. Обрадовалась, поверила, но не совсем; удивилась, что не взял ее с собой: столько лет не разлучались почти ни на один день, и вот, в эти страшные дни, после Макиной смерти, ушел от нее, как будто бежал. Тогда же почувствовала, что он скрывает от нее что-то. Скоро, по вестям из Мемфиса, узнала, что там его нет, и никто не знал или не хотел ей сказать, где он. Спрашивала Дио, но и она не знала или тоже не хотела сказать. Долго не говорила, но, наконец, видя, что мука неизвестности для нее хуже всего, сказала.
Царица выслушала ее спокойно, как будто уже ко всему приготовилась. Всему от него покорялась, — покорилась и этому. Но все еще не понимала, почему он не взял ее с собой. В счастьи вместе, в муке розно; значит, любит ее не так, как она — его? Но и в этом обвиняла себя: должно быть, не умела любить; если бы любила больше, этого бы не было.
В тот же день слегла и уже не вставала. Давняя болезнь сердца страшно усилилась.
Дио ни на минуту не отходила от нее: помнила свое обещанье царю. Но иногда казалось ей, что любовь ее хуже, чем ненависть. Как искусный палач, мучая жертву, сохраняет ей жизнь, наносит и перевязывает раны, чтобы продлить пытку, — так и она. Изо дня в день обманывала ее, что царя ищут, скоро найдут, уже напали на след: но каждый обман открывался, и мука становилась злее.
Иногда возмущалась за нее: «Что он с нею сделал! Жертву своими руками убить не хотел — убежал. Легкое бремя взял на себя, а на нее взвалил такое, какого нельзя человеку вынести».
В эту ночь у больной был страшный припадок. Пенту, врач, думал, что она не выживет. Судорога боли схватывала грудь и душила так, что вся она посинела, как удавленник в петле. Никакие лекарства не помогали. Пенту решил, наконец, прибегнуть к последнему, сильнейшему, опасному для самой жизни, — одуряющему соку киджеваданской белены, ливийского сильфия, аравийской смирны и маковых выжимок с толченой бирюзой и костями священного ибиса.
Лекарство помогло. Больная уснула. Проснется ли? «О, если бы…» — начала Дио думать и не кончила, вспомнила царя: «Если она погибнет, то и я с нею». Знала, что так и будет.
Завеса на дверях зашевелилась. Дио обернулась и увидела, что Пенту высунул голову. Встала, вышла к нему за дверь, в крытый ход, выходивший на реку.
Предрассветное небо, как будто облачно-серое, напомнило ей зимние дни на Иде-горе, когда шел снег. Но солнце взойдет, и небо опять, как всегда, заголубеет безоблачно. Белый туман курился на поемных лугах за рекой; там, в камышах, болотная птица кричала скрипучим криком, и, как будто в ответ ей, где-то далеко скрипело колесо колодца. Пахло горьким дымом зимней свежести.
Пенту взял Дио за руку, отвел подальше от двери и, наклонившись к самому уху ее, прошептал:
— Царь вернулся.
— Где он? — вскрикнула Дио.
Пенту замахал на нее руками:
— Тише! Услышит. Надо приготовить, а если вдруг, — беда…
— Где он? — повторила Дио шепотом.
Пенту указал ей на дверь в глубине хода. Дио кинулась было туда, но остановилась и схватилась за голову.
— Ох, Пенту, как ей сказать? Я не могу, лучше ты…
— Нет, Дио, ты, никто, кроме тебя!
— Откуда он? Как его нашли?
— Маху привел, а откуда, не знаю.
— Видел ты его?
— Видел.
— Ну, что же он, как?
— Лучше не спрашивай. Со дней бога Ра такого дела не видано! В рубище, не мыт, не брит, весь щетиной оброс, исхудал, почернел, а на спине, страшно сказать, рубцы. Ну, да спасибо Маху, — молодец! Никто ничего не знает, кроме нас двоих. Мы его и обмыли, обрили, одели.
Помолчал, как будто задумался, и потом вдруг опять спохватился:
— Что ж ты стоишь? Ступай к ней, а я здесь посторожу. Давеча, как узнал, что больна, кинулся к ней — едва удержали…
Ступай же, ступай, не бойся, как-нибудь обойдется, Бог милостив!
Дио вернулась в спальню. Царица лежала с открытыми глазами. Посмотрела на Дио долго, пристально.
— Где ты была?
— Тут же, у двери.
— С кем говорила?
— С Пенту.
— О чем?
— О царе. Хорошие вести…
— Ну да: «Ищут, скоро найдут, уже напали на след». Ах, Дио, как тебе не надоест? Глупая игра, подлая! Знаешь, я давеча думала: если бы я его больше любила, так бы не мучилась. Не маленький же и не сумасшедший, — знает, что делает. Ну, ушел и ушел, — значит, ему лучше так. Дио милая, сестра моя, он тебя любит. Будь же с ним, люби его, люби до конца, не покидай; если нужно, с ним и умри. А лгать больше не надо…
Приподнялась, облокотилась на ложе и вгляделась в нее еще пристальнее.
— Что с тобой? Что ты дрожишь?
— Страшно, царица. Все лгала, а вот теперь, когда надо правду сказать, — не знаю как. Давеча с Пенту мы говорили, знаешь, о чем? Как тебя приготовить к радости…
«Что это я, Господи!» — ужасалась она, но уже не могла остановиться, точно сорвалась с горы и полетела вниз.
— Какая радость? — прошептала царица и вдруг тоже начала дрожать.
— А вот какая. К Маху только что вернулся посланный из Мемфиса; видел царя за два дня пути отсюда; царь знает, что ты больна, и возвращается. Может быть, завтра к ночи будет здесь. Если не веришь мне, спроси Маху…
По тому, как царица менялась в лице, Дио чувствовала, что нашла верный путь, и уже не боялась, твердо вела ее по самому краю пропасти и, может быть, довела бы, спасла. Но вдруг послышался крик сначала далеко, а потом все ближе, ближе; кто-то бежал и кричал. Хлопнула дверь уже совсем близко. Дио узнала голос царевны Меритатоны, еще слабой после болезни, но уже вставшей с постели. Должно быть, узнав, что царь вернулся, она бежала к нему и кричала:
— Авинька! Авинька! Авинька!
Царица тихо вскрикнула, спрыгнула с ложа и кинулась к двери. Дио — за нею. Поймала, схватила ее, но она вырывалась, кричала:
— Пусти! Пусти! Пусти!
Вырвалась, выбежала в дверь, оттолкнула Пенту и побежала к двери в глубине крытого хода: догадалась по голосу Риты, куда надо бежать. Но, сделав несколько шагов, упала на колени и протянула руки.