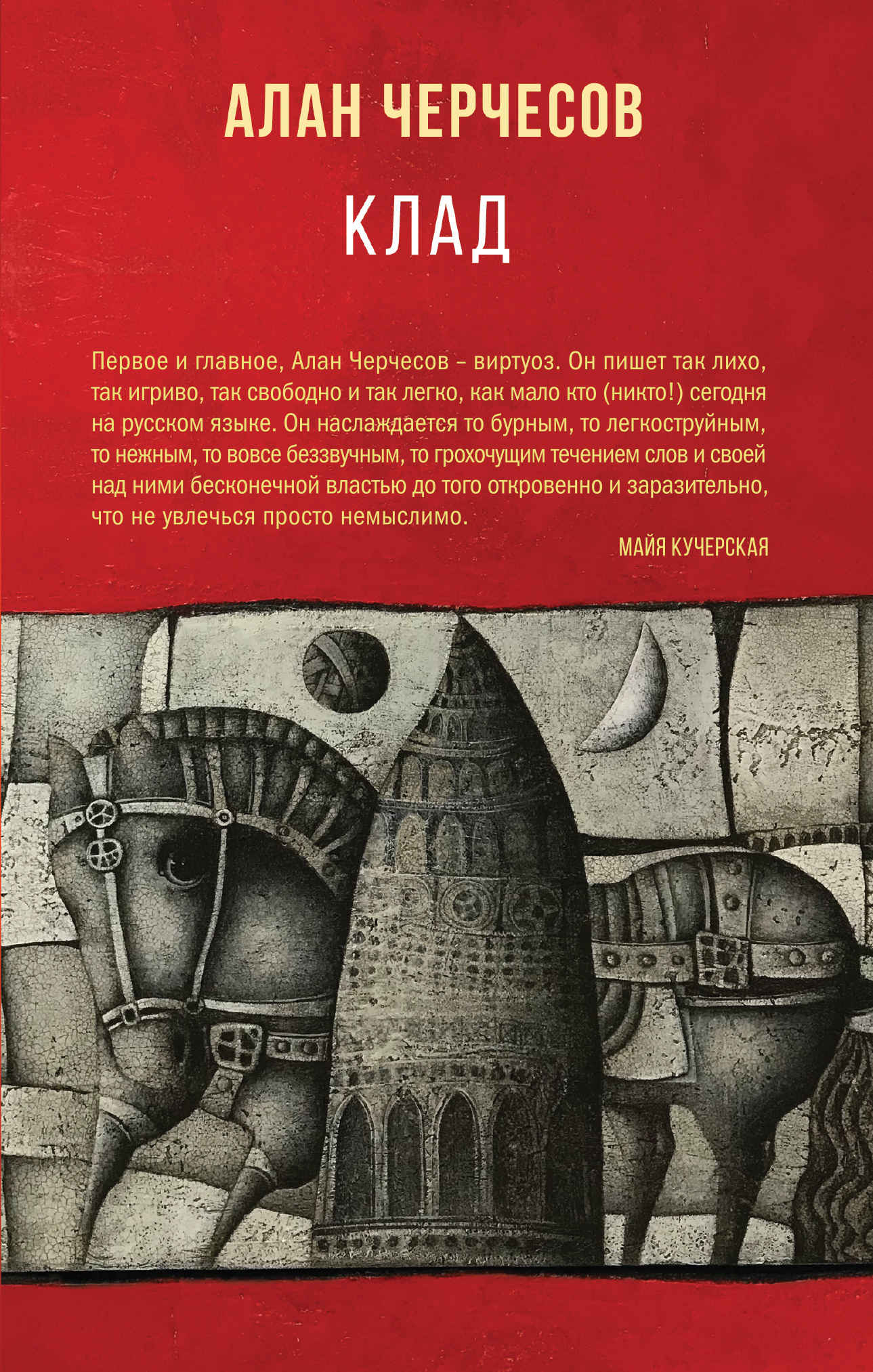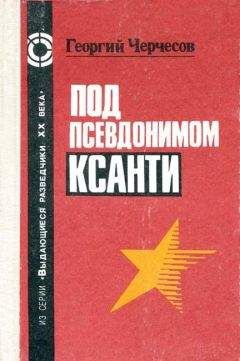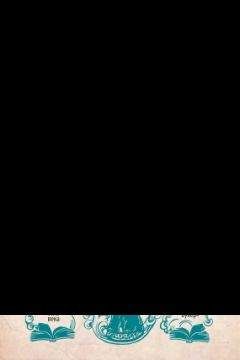растянулся на циновке во весь рост, слушая, как болят мышцы. Он не заснет. Лишь передохнет немного. Солнце пробралось в распахнутую дверь и прилипло к полу желтой полоской. Аул доносил сюда свои проснувшиеся звуки и ни о чем не ведающие слова. Лежать было приятно. Мальчишка вспомнил, что не скинул с плеч карц, но было лень шевельнуться.
Потом он понял, что пора, и тяжело поднялся. Взял с пола цепь и пошел к очагу. Прикрепив ее над золой, произнес молитву и развел огонь. Потом долго смотрел на него, вдыхая жар, отхлебывая из кувшина и думая о том, что в доме теперь есть хозяин. Он подсыпал углей и стал думать о свете, сменившем длинную ночь, и о том, как долго не было дождя. А после думал про цепь, что сперва его едва не задушила, а затем ждала шесть дней, прежде чем повиснуть над очагом и принять в себя святость. Он думал про то, что она заслужила это.
Потом он сходил за водой, разделся догола, умылся и смочил волосы. Сбил пыль с одежды, тщательно отряхнул арчита и, облачившись заново, надел шапку. Подвязал ремешком нож к талии и вышел на улицу. Он двигался не торопясь вверх по дороге, не обращая внимания на взгляды. Он шел к ныхасу, считая шаги и говоря себе, что привыкнет.
Он достиг площадки и постоял немного, выждав, когда смолкнут старики, потом громко поздоровался. Ему кивнули в ответ и теперь вопросительно глядели на него, ничего не понимая. Он сжал зубы, положил руку за пояс и повторил приветствие, только опять никто из них не встал. Тогда он подошел вплотную и спросил самого древнего из них:
– Разве очаг в моем доме погас? Или, может, вы знаете другого хозяина моего дома? А может, это уже и не ныхас?..
«Я заставлю их подняться, – думал он, глядя в растерявшиеся лица. – Чего бы это мне ни стоило, я их заставлю…»
Москва, 1988
Утро, как всегда, началось с птиц.
Он надел чистую черкеску, холодно оглядел причитающих над телом женщин, нахмурился и вышел из дому. На пороге задержался, кивнул столпившимся у ворот мужчинам, провел ладонями по газырям на груди и двинулся по тропе к пустому ныхасу. Добравшись до него, он обернулся и требовательно посмотрел на оставшихся у его хадзара горцев. Те тихо переговаривались, все еще недоумевая, потом четверо из них, старшие других домов, медленно направились туда же, вверх по тропе. Он жестом предложил им сесть, но они отказались, из уважения к чужому горю продолжали стоять, слегка склонив головы.
Он сказал:
– Хочу просить вас.
Самый старый из них произнес:
– Слушаем тебя.
– Она первая, – сказал он. – До нее никто в нашем ауле не умирал…
Все согласно кивнули, и по их лицам он прочел, что они не догадались. В голове у него скопилась тяжесть, и он с раздражением подумал, что дело же яснее ясного. Он молчал, подыскивая слова, но те, такие жесткие и убедительные прежде, пока он шел, будто рассыпались у него под ногами. Он чувствовал в пальцах подступающую злость.
– Она первая, – повторил он чересчур громко. – За восемь лет. И она не старуха.
Четверо мужчин напротив потупили взоры и опустили плетьми руки, выражая соболезнование. Они не понимали. Он стиснул зубы. Тяжесть в голове мешала собрать мысли. Он вяло подумал, что не помнит имен этих людей, хотя один из них был ему ближе брата. Птица клевала на тропе его слова. Он слышал вой женщин из своего хадзара. Утро убегало вниз по реке. До полудня многое предстояло сделать.
– Вот что, – сказал он. – Ничего не надо. Один управлюсь.
Они удивленно вскинули брови, а самый старый покачал головой и сказал:
– Народ поможет.
– Я ХОЧУ. Сам сделаю.
Мужчины беспокойно переминались с ноги на ногу. Ветер принес с реки прохладу. Ее было хорошо слышно, как и саму реку.
– Так не положено. По обычаю…
– Не нужно, – перебил он и вздрогнул. Опомнившись, поднес руку к груди, но немного спустя упрямо повторил: – До нее ведь никто в нашем ауле…
Они помолчали.
– Здесь пять домов, – сказал старший. – Их сложили восемь лет назад… За восемь лет обычай не умирает.
– Он и не умер. Она умерла.
Они пристально посмотрели друг другу в глаза.
– Но здесь она первая. Сам говорил…
Он не возразил, лишь лениво отметил про себя, что глаза-то у людей, оказывается, больно живые. Непохожи на сами лица. Никудышные глаза.
– Я ДОЛЖЕН это сделать сам, – сказал он.
Мужчины размышляли. Воздух играл у них за плечами. Небо было ясным, как студеная вода. Человек прищурился и внимательно поглядел на синеющий холм за мостом. С той стороны чуть слепило солнце.
Старший спросил негромко:
– Людям собираться к вечеру? – В голосе его мешалось сомнение.
– Да, – сказал человек. – К вечеру. Только завтра.
Мужчины переглянулись. Один из них, тот, что был роднее брата, сказал:
– У меня есть бык. Он твой.
Человек поморщился.
– Нет. Он твой и твоим останется. Завтра мясо будет. К закату все будет. Пусть женщины займутся тестом. Пусть они идут по домам.
– Ладно, – сказал старший. – Но если ты передумаешь…
– Я не передумаю. Я уже решил.
Они снова склонили головы, потом пошли вниз по тропе. Он смотрел им в спины и ждал.
Когда дом его опустел и последняя женщина скрылась за своей калиткой, он еще раз окинул взором холм вдали и редкую траву под ним, отер пот со лба и зашагал к хадзару.
На тело он не смотрел. Поднял кувшин у стены, допил остатки сопревшей за сутки воды, ощутил ее тухлый вкус, но не оставил ни капли на дне. Потом сходил в сарай, принес отсыревшую попону и бросил на пол рядом с табуретками, на которых лежало тело. Подошел к кровати, сорвал с нее покрывало и неспешно двинулся обратно. По-прежнему стараясь не смотреть, он завернул труп в покрывало, чувствуя твердую массу под пальцами, убрал доску и уложил тело на попону. Потом сел на табурет, снял шапку и заставил себя опустить глаза. Недолго подождал, встал и вышел взнуздать коня. После этого он вернулся, поднял на руки попону и то, что в ней лежало, поднес к коню и привязал все постромками тому на спину. Забрал из дому мятый бурдюк вместе с рогом, сунул их рядом, под постромки, конь всхрапнул, он взял его под уздцы и повел к реке. Тяжесть в голове давила, и он подумал, что зря