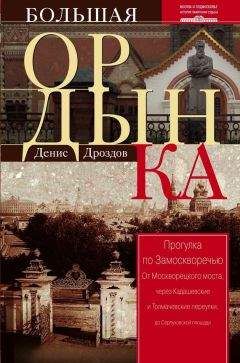Губа Кольцова выгнулась дугой. Он не мог поспеть за Степановой мыслью, схватить причину дивной спешки. Наконец, вяло:
— Рад бы послужить. Да не в своём нынче праве. Не могу своеволить. Совсем про главное запамятовал. Из столицы грамота царёва пришла. Да ещё когда? Ты только в Астрахань убыл. Мы и не ждали, а тут ладьи подошли расписные с пушками и шатрами. На передней царевич Мурат. С ним бояре Пивов да Бурцев. Они и доставили от государя милостивую грамоту яицкому казачеству, каку ты добивался. Теперь, значит, везу её Матюше с Барабошей.
— Э… — с досадой протянул Степан. — Какого ж вы… два, почитай, месяца сопли месили?
— Так время тревожно. С людьми недород. Вот воевода с головами и порешили: как крепость добьём, да как людей не боязно отпустить будет, меня зашлют станичников государевым бубликом соблазнять.
— Ну, тогда какой торг?! Поспешайте. A мы — своим ходом. Да, вот вам, кстати, от Матюши пряничек: он у своей станицы ногайской своре такую мыльню задал, — Урус поприщ двадцать траву пятками жарил.
— Во, бесы! Ну, Матвей! Ну, Богдан! Спасибо, Стеня. Порадовал. Ты тоже поспешай. Тебя, вить, там в гиблецах числят. А прилука твоя… Ну-ну, не пяль гляделки-то… Красава твоя три дни, как ты пропал, плакала. Не знай, как не иссочила глазоньки свои янтарные. Так и ходит грустна-приплакана. Тебя, по правде, коль, все не поняли. Почто, не попрощавшись, бросил?
— Тьфу на твой язык прыщавый, — ругнулся Степан. — Сбираемся, Иван.
Хлопов ни черта не разобрал в горячности и переменчивости друга. Но не спорил.
Семейка со дна челна достал самопал и ружьё, передал послу. Заплескались вёсла. Цокот копыт возвестил об отправке сухопутцев. Издали до бывого атамана доплыло:
— Удачи, Семейка!
— Эх, ну и молодцы яицкие, клянусь пупком архангела Михаила и всех православных святых! — восторгался Кольцов.
Вот ведь как. Последние поприща перед Самарой его пожирал пламень самоистязания. Вёрсты ползли, как шаги. Каких только замыслов ни выносил. То являлась сумасбродная, почти детская удумка: предстать Елчаниновым, отчебучить что-нибудь этакое, чтобы все увидели, как разобрала его, зрелого, неглупого мужика, сердечная рана. То — разыграть по приезде безразличнейшего из смертных, непробиваемого, ничем не выдавая горемычных терзаний, тоски.
Добрались, наконец, до слиянья рек. По Волге нарезали рыбацкие бусы с сетями. Попадались налысо «бритые», с щетинками пеньков, поляны. Из-за высоких крон прыщавятся некрашеные верха башен, поблескивает крест церковки на холме…
Вдоль Волги, устав от седла, двигались спешась. Лошади в поводу. Присутствие Степана избавляло от задержек разъездами.
И диво… Если все остатние дни и часы Бердыш всеми силами стремился в город, то за пару вёрст вдруг сник и приотстал.
Настиг галопом…
В ворота пропустили без допросов. Сквозя под высоким деревянным сводом, Хлопов воодушевлённо хлопнул друга по хребту:
— Эха! Сила! Пущай спробует Урус такую шишку после яицких сгрызть. Зубы подошвами пересчитает.
Первый, ими встреченный на площади полупустого города, был, конечно же, хозяйственный голова Стрешнев. Степенно поклонясь, он проследовал мимо: будто не видались день-два от силы.
— Что за незадача? — поразился Бердыш и двинул напрямки к воеводину двору.
Жировой-Засекин оба глаза на незваного гостя заалтынил, но в дверях не задержал. Да и посол, вот тоже…
Разговор с князем тёплым не назвать. Засекин был странно подавлен. А тут ещё в гостиную ворвалась дражайшая половина. С трубным гласом радушной хозяйки — хозяйки всего здесь:
— И кого к нам бог послал?
Налетев на Бердыша, ухмурилась и с развороту: вон. Понятно, в этом доме Степану что-либо разведать не светило.
Часом позже, оставив Хлопова на попеченье воеводы, покинул гостеприимный дом. Где-то споро постукивали молотки и топоры. Доводили пристройку к одной из стен…
Встречные казаки, стрельцы, строители вежливо здоровались, но не более того. Точно не он рука к руке таскал лежни, спускал челны, укреплял пушки, в дозоры ездил…
Эге, видно, князь-батюшка, а больше горлица его, вволю погулькали, примерно порадели о светлой памяти моей!
Стукнул в дверь избы Звонарёва. Открыл хмурый дворовый. Удивясь левой бровью, провёл через сени к Поликарпу. Здоровенный хозяин, не дичась, как иные, крепко обнял.
— Прибыл? Жив-здоров? Рад, брат! А то о тебе всякое, понимаешь, мелют.
— Уж понял. Хоть ты ко мне по-старому… понимаешь… иль при встрече кланяться начнём? — усмехнулся Степан.
— А что, слабо обнял? Шибче могу!
— Спасибо, друже. Шучу я. Что с горя остаётся?!
— Горе… Хм, по правде, моя жёнушка и та к тебе охладела чуток, — чистя горло, пробормотал Звонарёв.
— Только ль она? — скривился Бердыш. — Не скромничай уже. Кем меня воевода разрисовал тут?
— Ну, орёл! Сам зришь, кто у хулы заплетчик! Не стоко, правда, кинжал, скоко ножны. Ну, так… А что там рясны низать? Сам посуди, о тебе что подумали? Ты ведь простыл. Без привета и следа. Тут такое понесли! И самые лютые молвки от воеводиных слуг! Сперва кумекали: подался ты в Астрахань, кабы не в Персию, к тайной суженой, а то и жене. Кто болтал: к станичникам. Чего только ни нагородили! Я-то, как мог, жену разубедил. Сам понимаешь, проще корову стихире обучить, чем бабу — толку.
— Ясно. Коль ты свою жёнку не убедил, её сестрицу и подавно некому…
— Вишь ли, Наденька-голубушка так себя поставила, что не разберёшь, что там у ней на уме. Она сразу, вить, не казала, как отнеслась. Потом всё плакала, да всё втихомолку: при сёстрах. А дальше… В себя ушла. Тут к ней и повадься хахаль гладкоусый, племяш князёв пресловутый. Свататься. Она ему ни слова, ни пол. Ходит, как в омраке. Ну, а как загуляли слухи, что со станичниками якшаешься и цельный гарем ногаек завёл… В общем, покуда считала, что ты в Степи сгинул, как мёртвая была. А как пошла молва, что жив и развлекаешься, тут и ожила. Да вот с левого-то уха — радость, а с правого — обида зараз. Сам понимаешь… — почесав крупное стриженое темя, Поликарп присказал: — Короче, видя такую непонятицу с её стороны, отец и реши замуж её скорей — отвлечь чтобы. Ему-то, как и всем, откель знать про дела твои заветные? И воевода про это — молчок. Вот и гадай: куда сокол наш подался? И где о тебе правда, а чего — выдумка? Да и это самое, породниться с княжескими…
— Хорош! — Бердыш шлёпнул ладонью о стол, взлетели плошки. — Понятно. Мне б ей в очи глянуть только.
— Эт запросто. Айда!
— Да-а… — замялся Степан, рубанул ребром, — веди!
…По-хозяйски отворив калитку, Звонарёв широким взмахом пригласил в избу. Три подруги на лавке перед крыльцом о чём-то шушукались. Услышав скрип, две скоренько обернулись, заулыбались… Но, увидав, кто в гости, одна хмыкнула и презрительно вздёрнула плечом. Вторая поднялась и вбежала в дом.
Надя, третья, краше всех даже в тоске, оборотилась не сразу.
Легко одета — простенький летний платок, покрывающий волосы. На коленях греется кошка. Белая, пушистая, пухлявая, с умными изумрудами во лбу.
— Здравствуй, сестрица, — кличет Звонарёв.
Она переводит задумчивый взгляд, привычно приветствует нового родственника. И тут огромные печальные глаза начинают шириться, потом резко сужаются и вот снова ширятся, как близящиеся ядра. Что-то взблеснувшее переменило всё в карей глубинной зыби. Глаза как будто плавятся под обжигающим взором этого мужчины. Поликарп понятливо испаряется.
— Здорова ли, Надежда Фёдоровна? — низко выперхивается у Степана, он ненавидит свой голос, свои руки: добела сжатую в правом кулаке левую ладонь.
— Благодарствую, — тихо, то ли смеясь, то ли плача.
— Слыхал я, что скоро… — вот и грубая бойкость, которая тотчас же смутила самого: чвань, дрянь, не то. Вовремя осёкшись, еле слышно проронил: — Коли винен в чём, прости.
— За что прощать? Бог всем простит… за всё.
— Тебя ль слышу?! Чую, вскружили голову наветы злые, замутили разум, и нешуточно…
— Может, и замутили. А, может, и помыли? Головке девичьей разве привыкать? Не так давно чьи-то слова, ой, как её вскружили, глупую, доверчивую. Ой, как!
— Ненавидишь?
— Как ненавидеть, кого боготворишь?
— Надежда… Надя!.. — вот и всё, вот и ясность, полная, милая, расслабляющая…
— Проходьте в дом, — поспешно прервала. В нечаянную минуту к калитке приблизился Фёдор Елизарьевич. Степан смущённо приветил старику. Тот отвечал учтиво, пригласил в избу.
Вот уж где шаги, что вёрсты…
Разумеется, за столом продлить беседу не спеклось. Тут оставалось одно: выискивать вопросы и поводы для поддержанья разговора.
Вот уж где хозяин был на высоте. Как всегда, деловит, предупредителен. С гостем говорит ровно, без подначек и намёков. Что правда — и здесь не видать прежней задушевности. Но и не досадует, вроде. Как и раньше, добросерден, не в пример другим.