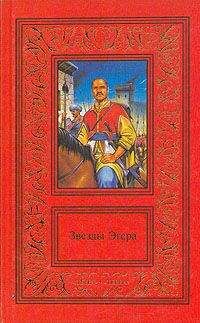— Не Добо меня освободил, а малый ребенок. Хотите — верьте, хотите — нет, но вызволил меня семилетний мальчик. А может, ему и семи лет не было. Вот оно, чудо господне! Гергеем звали того мальчика — я хорошо помню. Пусть Дэвла благословит этого ребенка, где бы он ни был. И конь и телега достались мне благодаря ему. Для него и берег я свой золотой, но потом понял, что это был ангел.
— А скажи, я не похож на твоего ангела?
Цыган недоверчиво покосился на Гергея.
— Никогда я не видал усатых ангелов.
— А вот посмотри, — сказал, улыбаясь, Гергей. — Я тот самый ангел и есть. Помню даже, что ты в тот день женился и жену твою звали Бешке. Встретились мы в лесу за Печем. И еще тебе из добычи досталось ружье.
У цыгана от удивления чуть глаза на лоб не полезли.
— Ой, благослови вас райский Дэвла, ваша милость молодой мой барич! Да размножатся ваши бесценные потомки, точно зернышки проса! Что за счастливый день нынче!
Он опустился на колени, обхватил ноги Гергея и поцеловал их.
— Ну, теперь уж я уверен, что мы не напрасно сюда приехали! — весело воскликнул Гергей.
— Добрая примета! — заметил и Мекчеи.
— Нам сопутствует какой-то добрый ангел! — обрадованно сказал Янчи Терек.
Они прилегли на траву. Гергей рассказал цыгану, зачем они приехали, и спросил:
— Скажи, как нам добраться до господина Балинта?
Цыган слушал Гергея: глаза его то сверкали, то весь он поникал. Он поцеловал руку Янчи, потом сказал, задумчиво покачав головой:
— Попасть в Стамбул можно. Пожалуй, и в Семибашенный замок попадем. Да только господина нашего стерегут сабли острые… — И, обхватив руками свою голову, точно баюкая ее, он запричитал, раскачиваясь: — Ой, бедный ты наш господин Балинт! Стерегут тебя в темнице! Кабы знал я, где ты томишься, кликнул бы тебя в оконце, поздоровался бы и сказал, что целую твои руки-ноги. Ты все у меня на уме. Вот и нынче я велю карты раскинуть, погадать, когда же освободится господин мой!..
Гергей и его друзья подождали, пока присмиреет воображение цыгана, потом попросили его все хорошенько обдумать.
— В город-то мы проберемся, — сказал цыган, — тем более сегодня. Сегодня в Стамбуле персидская панихида, и богомольцев в город собирается не меньше, чем у нас в Успенье. Да вот беда: в Семибашенный замок даже птица не залетит.
— Ладно, мы еще поглядим на этот Семибашенный замок! — гневно воскликнул Янчи. — Нам бы только в город попасть, а куда птица не залетит, туда мышка забежит.
Золотой Рог шириной равен Дунаю. Этот морской залив, изогнутый в виде рога, проходит посреди Константинополя и, оставляя город позади, доходит до самых лесов.
Выбравшись из лесу, наши путники поплыли по заливу в большой рыбачьей фелюге. На носу сидел Гергей, ибо одежда его больше всех напоминала турецкую; посреди фелюги на скамье устроился Мекчеи, тоже смахивавший на турка в своем красном одеянии; остальные приютились на дне лодки.
В сиянии заката башни минаретов тянулись ввысь, точно золотые колонны, сверкали золотом купола храмов, и все это отражалось в море.
— Да ведь тут как в сказке! — восхищалась Эва, сидевшая у ног Гергея.
— Красота несказанная! — согласился с нею Гергей. — Но это, душа моя, точно царство сказочного колдуна: дивные дворцы, а в них обитают чудовища и заколдованные создания.
— Волшебный город! — проговорил Мекчеи.
А Янчи сидел в лодке притихший и грустный. Ему стало почти приятно, когда он увидел среди дивной роскоши дворцов черное пятно.
— Что это за роща? Вон там, за домами, на склоне горы? — спросил он цыгана. — Одни тополя видно. Но какие здесь черные тополя растут! И какие высокие!
— Это, милостивый барич, не тополя, а кипарисы. И это не роща, а кладбище. Там хоронят своих покойников жители Перы[45]. Но лучше бы все турки лежали там!
Янчи закрыл глаза. Быть может, и его отец лежит в могиле под сумрачным кипарисом… Гергей замотал головой.
— Город расположен так же высоко, как у нас Буда на берегу Дуная. Только здесь две, а то и три горы.
— Вот не думал, что Стамбул стоит на холмах! — заметил Мекчеи. — Я полагал, что он построен на равнине, как Сегед или Дебрецен.
— Им легко было выстроить такой красивый город, — молвила Эва. — Разбойничья столица! Стащили в нее награбленное со всех концов света. Любопытно знать, в какой дом попало убранство дворца нашей королевы?
— Ты хочешь сказать — короля Матяша, душа моя? — поправил Гергей.
Он не любил королеву Изабеллу и хотел подчеркнуть, что убранство будайского замка привезли не из Польши.
Когда они подъехали к мосту, солнце уже закатилось. На мосту была толчея, суета.
— Сегодня на панихиде будет много народу, — сказал лодочник.
— Мы тоже на панихиду приехали, — ответил Гергей.
Янчи содрогнулся. Бледный, смотрел он на густую толпу, которая шла через мост в Стамбул.
Благодаря толчее пробрались и они в город.
Стражи, стоявшие на мосту, не обращали ни на кого внимания. Людской поток вынес наших путников на улицы Стамбула.
Они сами не знали, куда идут. Люди стремились куда-то вверх по трем улицам, затем остановились, и образовался затор. Так застревает во время ледохода какая-нибудь крупная льдина на Тисе, и тогда останавливаются, торосятся и другие льдины. Солдаты раздвинули толпу, расчищая путь для персидских паломников.
Гергей прижал к себе Эву. Остальных толпа оттерла к стене какого-то дома. Только глазами следили они друг за другом.
Вдруг в конце улицы вспыхнул такой яркий свет, словно сняли с неба солнце и понесли вместо фонаря. Появилась корзина из железных прутьев, величиной с бочку. Она разбрасывала искры. Корзину нес на саженном шесте могучий перс. В ней горели поленья толщиной в руку. Поленья были, очевидно, пропитаны нефтью. В ослепительном сиянии, разбрасываемом этим факелом, величественно шагали десять смуглых людей в траурных одеждах. Коротко подстриженные курчавые бороды и крутые подбородки свидетельствовали о том, что это персы.
Позади них мальчик вел белого коня в белом чепраке. На чепраке лежало седло, на седле — две сложенные крест-накрест сабли, а к седельной луке привязаны были за лапки два белых живых голубя.
Лошадь, голуби, сабли, чепрак — все было забрызгано кровью.
Вслед за конем шли другие люди в траурной одежде и тянули однообразную горестную песню, состоявшую всего из двух слов: «Хусейн! Хасан!»[46] — и короткого восклицания «Ху!»[47], которое сливалось с какими-то странными хлопками.
Процессия приблизилась, и тогда стало ясно, откуда доносятся эти звуки. Шли двумя вереницами персы в черных хламидах до пят, с обнаженной грудью. Головы у всех были повязаны черными платками, концы которых болтались сзади на шее.
Шагая по обеим сторонам улицы с кликами: «Хусейн! Хасан!» — они поднимали правую руку и, выкрикивая «Ху!», били себя в грудь кулаком возле сердца.
Шум и хлопки раздавались именно от этих ударов. Багровые и синие кровоподтеки доказывали, что богомольцы колотят себя в грудь самым нещадным образом. Персов этих было человек триста. Они то и дело останавливались и, только ударив себя в грудь, делали два-три шага вперед.
Над ними развевались разноцветные треугольные флаги, по большей части зеленые, но попадались также и черные, желтые и красные.
К древкам флагов и к шапкам персидских детей были прикреплены серебряные изображения руки — в память турецкого мученика Аббаса, которому отрезали руку за то, что он напоил водой Хусейна, когда враги схватили его после Кербелайской битвы.[48]
И с нарастающей силой звуки песни: «Хасан! Хусейн! Хасан! Ху!»
Факелы осветили еще одну черную группу людей, которые окружали верблюда, покрытого зеленой попоной. На спине верблюда стоял маленький шалаш из веток, а из него выглядывал мальчик. Видно было только лицо мальчика, да иногда между ветками высовывалась его рука, пригоршнями сыпавшая на людей в траурной одежде нечто вроде опилок.
Временами позади слышался какой-то странный лязг и грохот.
Вскоре подошла и другая траурная процессия. Участники ее тоже шагали по обеим сторонам улицы и тоже были одеты в черные хламиды. Но одеяние это было раскрыто на спине. Богомольцы держали в руках плети из цепей толщиной в палец. Плети были такие тяжелые, что их держали обеими руками, и при каждой строчке песни, закончив ее, персы ударяли себя по голой спине — то через левое, то через правое плечо.
Увидев окровавленные и усеянные волдырями спины этих людей, Эва ухватилась за одежду Гергея.
— Гергей, мне дурно…
— А ведь будет еще страшнее, — ответил Гергей. — Мне об этой панихиде говорил один невольник-турок. Я думал, что он сказку рассказывает.
— Но ребенка того не убьют?
— Не убьют. И голуби и ребенок — это все символы. В полночь перережут тесемки, которыми привязаны голуби. Голуби — это души Хасана и Хусейна. Их полет в небо будет сопровождаться благоговейными воплями богомольцев.