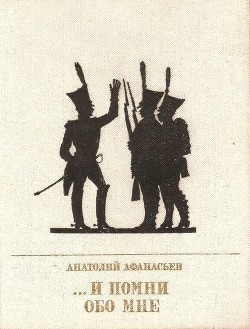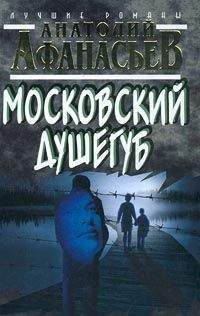— Дружков у него нет, Иван Иванович. Подметальщиков за ним много, каждый рад угодить, а дружков — откуда у такого вепря? Хотя, вру… Васька Бочаров, Стручок по прозванию. Это уж не ведаю, за что его так прозвали. Из себя видный стеврюга, харю наел возле Голикова. Но это, поручик, как бы и надвое можно рассудить. В чем-то Стручок и сам почище Пашки будет. Мягко стелет, да жестко спать. Где какая свара, где суд — там он в стороне. Но уж знай, без него дело не вышло. Каждой бочке затычка. Хитрости бог на роту нес, а ему досталось. Хотя, конечно, против Пашки не устоит — жидок. Мослы не те. У Стручка другой подход, с приятностью, с посулом. По головке гладит, гладит, после в волосья вцепится — и задавит. А спроси — за что, хохотнет, как в карман напрудит. И еще, конечно, умен. Из купцов он, грамоте обучен. Для наших человеков это вроде чуда. Говорит затейливо. Иной раз не поймешь о чем, а оказывается — в долг косушку клянчит.
— А еще кто? — Все, что говорил Птицын, было страх как любопытно, и ноздри Сухинова раздувались от нетерпения. Чтобы выказать старание, юнкер уткнулся взглядом в угол и начал вспоминать до того добросовестно, что вдруг закашлялся.
— Еще, еще, пожалуй, Васька Михайлов, тоже, как и Голиков, фельдфебель бывший. Этот чего учудил: поехал в деревню, где у него семья обреталась, и там барское имение дотла спалил. Поджигальщик хренов. А так мужик обстоятельный, неглупый. Я про него почему сразу не вспомнил — пьет он редко. И понемногу.
— Дружок Пашкин?
— Да вроде того. Не трогают они друг друга. И тот бык двужильный, пороховой, и другой. Два медведя на одной поляне. Им или насмерть биться, или поврозь держаться. Эти друг к дружке зла не имеют и промеж собой, я замечал, об чем-то беседуют.
— А приметливый ты, Костя, — одобрил Сухинов. Бывший юнкер неряшливо замахал тряпкой. Неужели его новый, дорогой приятель подозревает о тайной его деятельности? Сухинов не угадал причины его внезапного замешательства и на всякий случай подпустил тумана.
— Хотим с друзьями записки от скуки писать, — сказал он. — О жизни каторжанина. Как тебе мысль, юнкер?
— Занятная мысль, очень занятная, — обрадовался Птицын. «Бежать собрались, — подумал про себя с тоской. — А вот мне с ними напроситься, возьмут ли?»
Сухинов вышел на улицу. Завечерело, и небо висело низко, темное и глухое. В воздухе бродил сильный, здоровый запах сосны. Скоро, скоро весна. Избы поселения маячили на фоне бескрайнего пространства крохотными бугорками. Здание тюрьмы отсюда, от питейного дома, походило на выползшую из леса серую гусеницу с двумя возвышающимися по бокам головами-башнями. За месяц этот пейзаж основательно вклеился в сознание, как изо дня в день повторяющийся кошмар.
«Завтра пойду на Нерчинский завод, — решил Сухинов. — Разыщу Алешку Пятина. Это не терпит отлагательства. Надо спешить, спешить… весной, ишь, как пахнет!»
Назавтра было воскресенье, можно уйти неприметно. Товарищам он ничего не объяснил, просто сказал, что вернется к вечеру. До Нерчинского завода верст, пожалуй, пятнадцать — набухшего, апрельского, санного пути. Сухинов мог бы напроситься на подводу, которая регулярно курсировала между рудниками, но предпочел добираться самостоятельно. Вышел до свету и, когда розово задымило солнце, бодро шагал по бескрайнему снежному простору. Если что и могло отвлечь Сухинова на время от навязчивых мыслей, так это именно белое безмолвие, в которое он погрузился. Каждый его шаг, казалось, кощунственно нарушал вековую тишину, но он не чувствовал себя одиноким на этой хрустящей дороге. Иногда в лесу, надвинувшем на дорогу мохнатые шапки елей, что-то ухало, трещало, взвывало, словно огромное неведомое чудовище, восстав от сна, начинало прорываться сквозь чащу. Сухинов ровно и глубоко дышал, расстегнул тулупчик. «Вот так бы и идти до самой России, — подумал он. — Ничего не надо. Идти и идти, без оков, вольно. Да где там!»
«А был ли я волен прежде, до каторги? — думал Сухинов. — Нет, не был. В оковах не ходил, но и собственным умом не жил. Всегда повиновался инструкциям и распорядку, не мной придуманным. Да и что я мог выбрать, кроме военной службы. У нас как будто рождается человек с ярлыком. Вот родился крестьянин, вот солдат, вот чиновник. Все вроде клейменые от рождения. Попробуй, сорви ярлык, заживи по-своему — тут тебя, голубчика, и сомнут. Сомнут те, кто для того родился, чтобы сминать, — разные царевы служки. А им лучше ли? Да нет, и им тошно. Вон как пристав Кристич маялся. И ему тоже деваться некуда».
«Не все дано понять человеку», — подумал Сухинов. В одном месте, где вдоль пути веселым табунком побежали молоденькие березки, он остановился отдохнуть, прислонился к морщинистому стволу, пожевал хлебца. Подымил табачком, со странным, щекочущим любопытством наблюдая, как надолго зависают в густом воздухе серые струи. Природа здесь была настолько чиста и первозданна, что отказывалась принимать в себя всякую грязь, отторгала ее или растворяла в себе бесследно.
За Сухиновым увязался волк-одиночка. Долго сопровождал его, мелькая поджарым телом среди деревьев, а то задерживался, отставал, выбегал сзади на дорогу и нюхал следы. Сухинов посетовал, что идет безоружный и даже не догадался прихватить какую-нибудь железяку. Ну как волк окажется не один, а соберет себе подмогу. «А-а! — безразлично улыбнулся Сухинов. — И такая смерть не хуже прочих».
Теперь он задумался о смерти, и, как часто с ним было в последнее время, думая о чем-нибудь, он тут же удивлялся своим мыслям, точно они были не его собственные, а нашептанные, подслушанные. Он думал, что желание смерти и страх смерти подстерегают человека ежеминутно и, бывает, наваливаются одновременно. Это самое чудное, когда хочется жить, потому что молод и здоров, и хочется умереть, потому что обездолен и сир. Это похоже на солнечный удар, когда начинаешь раскачиваться, все плывет перед глазами, ноги слабеют и тихо валишься на землю, прижимаешься к ней, ища то ли желанного забвения, то ли утраченной бодрости.
«Почему это так? — гадал Сухинов. — Человек впивается ногтями в того, от кого ждет помощи, и часто ранит его и калечит? Утопающий топит спасателя. Почему так?»
Ответ он знал. Ответ был в слабости человека, в его худом умишке и малодушии. Он подобен животному, которое готово укусить руку, выдергивающую у него занозу.
С Алексеем Пятиным он был знаком на воле, много времени назад. Когда они проходили Нерчинский завод, он его увидел издали в отрепьях каторжника, и сразу узнал, и обрадовался. Пятин прежде служил в денщиках у знакомого капитана, по фамилии Швей. Этот золотушный и припадочный Швей и упек Пятина на каторгу, обвинив его не то в воровстве, не то в покушении на собственную жизнь. Швей был человек пропащий, спившийся, на него покушался не только Пятин, но и черти, упыри и другая нечисть. Швею место было в больнице — так оно и вышло впоследствии, но Пятину от того легче не стало. Он отправился на каторгу по рапорту своего командира, за которым ухаживал, как за малым дитем.
Сухинов его уважал. У Пятина была слабость: он любил читать и перетолковывать Библию, и, по его толкованию, выходило, что все люди равны. То есть не только перед богом равны, это само собой, но и вообще равны друг перед другом, независимо от положения. У него хватало ума не делиться с каждым встречным своими открытиями, но с теми, кому доверял, он об этом беседовал. Сухинову Пятин доверял и с ним спорил. И спорил так, что Сухинов в конце концов всегда соглашался. Он понимал, что Пятин, скорее всего, не добром кончит, но удивился, узнав, какая ужасная беда свалилась на честнейшего солдата. Пятин тогда уже был под судом, и никто не мог ему помочь, но Сухинов все же пришел к капитану Швею.
— Капитан, вы должны спасти своего денщика. Иначе выйдет, что вы подлец!
Швей загородил лицо растопыренными пальцами и глядел на гостя, как через решетку. Он торжественно сказал:
— Не надейся меня запугать, Сухинов. Я видел, как ты ночью подползал к окну с кинжалом в зубах. Но меня запугать трудно. А никакого Пятина я не знаю, на-кася выкуси! На эту удочку меня не поймаешь!