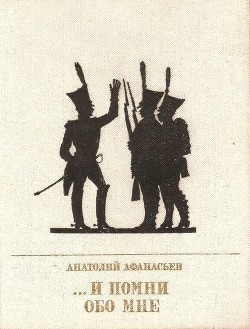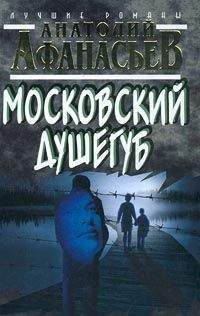Ввалился в дом, похожий на бледное приведение. Пока его перевязывали (у предусмотрительного Соловьева на такой случай все оказалось под рукой, даже склянка с остро пахнущей смолистой мазью, имевшей широкое хождение среди каторжников), Сухинов оживленно рассказывал:
— Вы не поверите, братцы! Гуляю я по лесу вокруг рудника, любуюсь красотами, и вдруг из чащи вылетает волчья стая. Подстерегли они меня. Баталия была гибельная. Они ведь меня сожрать нацелились. Но и я, как вы знаете, не лыком шит. Двух волчищ с одного удара положил! Все равно быть бы мне в волчиных желудках, если бы не их гурманские замашки. Меня оставили на сладкое, а сами взялись за своих братьев. Передрались, конечно. А я тем временем скрылся. Слышь, Саша, волки-то не напоминают тебе некоторых наших соплеменников?
— Откуда у тебя этот кинжал, Иван? — строго спросил Соловьев.
— Кинжал? Он мне жизнь спас. Это подарок друга. Надо заметить, своевременный подарок.
— Какого друга? Назови его имя. Кто он?
Сухинов растерялся. Соловьев хмурился, как ненастный день, а Саша стыдливо отводил глаза.
— В свое время я вас с ним познакомлю.
— Ты перестал нам доверять, Сухинов? — В голосе Соловьева даже не обида — сожаление.
— Вы знаете, как я к вам отношусь, Иван Иванович, — вступил Мозалевский. — Вы всегда были для меня примером. Я горжусь вашей дружбой… Но последнее время… ей-богу!.. вы прячетесь, таитесь от нас. Это некоторым образом оскорбительно. Разве я или барон давали вам повод? Пусть в чем-то наши взгляды не совпадают, но это не значит, что с нами следует обращаться, как с соглядатаями!
Сухинов буркнул что-то невразумительное.
— Оставь его, — сказал Соловьев. — Каждый из нас имеет право поступать, как ему заблагорассудится. И все же, Саша прав, нам казалось, мы можем рассчитывать на большее уважение и доверенность.
— Кинжал мне подарил солдат на Нерчинском заводе. Я туда сегодня ходил.
— Зачем? — удивился Соловьев.
— Э-э, Вениамин, видишь, какой ты!
— Хорошо, я не спрашиваю, зачем ты туда ходил, я сам это знаю. Вопреки нашим предостережениям, ты продолжаешь заниматься несбыточными прожектами. Наши мнения — для тебя пустой звук.
— Нет, — возразил Сухинов. — Я всегда к ним прислушиваюсь. А сегодня я просто гулял.
— Не шути, Иван! Плакать придется всем вместе.
— Да, да, — подхватил Мозалевский. — В самом деле, кто поверит, что вы действовали в одиночку?
— Фу, как не стыдно, Саша!
Мозалевский отошел к двери и стал там, скрестив руки на груди, в позе Наполеона. Отлично! Сухинов посмел заподозрить его в трусости, больше он ни во что не станет вмешиваться. Придет час, и Сухинов убедится, как он ошибался на его счет. Он, Мозалевский, не раз доказывал свою храбрость, но, однако, зачем же бессмысленно совать голову в петлю? Что бы там ни было, он, Саша Мозалевский, умывает руки.
Рана у Сухинова оказалась неопасной: вена не была задета.
— Левая рука у меня какая-то несчастливая. — Сухинов попытался разжалобить друзей. — Много раз ее зацепляло, то саблей, то пулей, а теперь вот — на тебе, волк до нее добрался. Прямо беда. Может, ее отпилить, и дело с концом? Ты как думаешь, Саша? Ты чего там стоишь у двери? Я тебя чем-нибудь обидел?
— Если бы я мог на вас обижаться, вы бы об этом узнали! — с достоинством и со значением ответил Мозалевский. Впрочем, ему надоело дуться.
— Здорово ты меня срезал, — восхитился Сухинов. — Молодец! Так и надо. Никому не давай спуску… А чай мы пить будем?
— Ох, Ваня, Ваня! — печально заметил Соловьев. — Есть в тебе что-то такое… ребяческое, милое, светлое. Люди к тебе тянутся. И мне ты бесконечно дорог. Из ведь пропадешь! Пропадешь, Иван! Ни за понюх табаку покатится твоя веселая головушка.
Сухинов задумался на мгновение, отрешился от идущей минуты, далеко заглянул, будто в будущее, где темно было и кровью пахло.
— А почему я должен не пропасть? — спросил тихо. — Чем я лучше наших товарищей, уже пропавших? И ты чем лучше? Почему — им одно, а нам другое? Такой дележ не по мне.
— Тобой месть руководит, не идея… Но хватит об этом. Все слова бесполезны. У тебя такая натура, Иван, что все слова бесполезны… А может, так только и можно победить, не знаю.
Потом они пили чай и вспоминали вольные, счастливые дни, полные удивительных предчувствий.
Голиков на свидание с Сухиновым привел Ваську Бочарова. До того они с Васькой не раз обсудили, что это за чудной «государев преступник» и чего ему от них надобно? Тут было над чем поломать голову смышленому Бочарову. Вначале он предположил, что Сухина попросту фискал, шпик. За это предположение Голиков сразу пообещал свернуть дружку шею.
— Может, и я, по-твоему, фискал? — слишком вежливо поинтересовался Голиков.
— Не-е, ты, Паша, не фискал, ты придурочный. Ты мне лучше объясни, за какие дела он тебе угощение поставил. Или за красоту твою писаную?
Голиков мало думал о своем первом разговоре с Сухиновым. Он не умел думать. Он проникся к поручику доверием, ощутил его власть над собой, а этого с ним тыщу лет не бывало. Но объяснить свои чувства он, если бы и взялся, вряд ли сумел. В его дремотном воображении после встречи с Сухиновым закопошились слабые ростки смутных надежд. Каких? На что? Бог весть.
После дотошных расспросов Бочаров все же пришел к выводу, что Сухина не фискал и не шпик.
— Он, скорее всего, блажной, — определил Бочаров. — Я таких встречал. Это хорошие люди, особливо ежели у них есть деньжата. Они, блажные, с денежками легко расстаются, без горя. Ты ему обещай что ни попадя, чего он захочет, хоть луну с неба, а уж он тебе за обещание все отдаст, рубаху с себя сдерет. Мы его, Пашенька, обязательно должны раздеть и разуть. Это для блажного первое удовольствие, чтобы его раздели и разули. И надобно, Пашенька, поспешить, потому не мы, так другие его враз обкрутят.
Голиков усмехнулся. Вспомнил черные молнии глаз Сухины, подумал злорадно: «Посмотрю я, как ты его разденешь. То-то будет забава».
На встречу Сухинов принес неизменный штоф и пяток печеных картох. Бочаров сделал вид, что к угощению равнодушен, малость пригляделся к Сухинову, ощупал его своими щучьими глазами и вдруг быстро заговорил, завсхлипывал на малопонятном языке, каким он умел охмурять каторжных:
— Эвона, барин, какие удальства теперь наши! Ты к нам душой, а мы рази отвернемся. Окромя бога, нету власти над иродами, а он в нашу темь не заглядает, потому и свербим по шесткам, кровушкой умываемся, потом утираемся. Одна надежа, придет человек, принесет рушник вышитый, накинет на шею, притрет к ушам. Потечет по краям сукровица, а стержень наружу выйдет, твердый и острый. Ты нас, барин, только пойми добром, тогда и любое дело по твоему хотению сварганим, и еще на чужой роток останется чуток!
— Ты что, с утра причастился, купец? — спросил в удивлении Сухинов.
— Откуда знаешь, что я из купцов происхожу?
— А ты скрываешь?
Бочаров хмыкнул, сунул в рот картофелину с кожурой, задумчиво жевал. Что-то ему стало не по себе. Много он повидал на своем веку, по жизни плавал, как угорь, а вот сейчас что-то стушевался. Предпочел еще приглядеться. Они стояли на полянке, в березнячке, уже тронутом понизу влажной подпалиной весеннего пробуждения.
Бочаров Сухинову не понравился. Слащавая, жестокая хитрость из узких, заплывших глаз прет, как тесто. И движения мягкие, кошачьи. Таких людей Сухинов всегда сторонился да и встречал их редко. От Бочарова, точно от попа, за версту тянуло елеем и обманом. «Ну и что? — в сотый раз подумал Сухинов. — Выбирать не приходится».
— Купцы, они понятно, навроде второго сорта считаются люди, — выпив и закусив, заговорил Бочаров уже без витийства. — Думают, будто они все поголовно обманщики и богачи. А вот мой батя, царство ему небесное, за всю жисть на чужую копейку не позарился. За то и нужду терпел, и обиды от людей. Нынче честность не в почете.
— Ты, значит, не в отца удался? — заметил Голиков, находившийся в добром расположении духа. Бочаров на его замечание никак не отозвался.