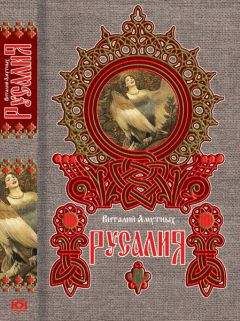Но как же тревожен был этот первый полет! Каждую его секунду Константину казалось, что сопутствующая удачливость — это всего лишь приманка изменнической судьбины, что вот еще шаг, и окружающая действительность окажется живописным обманом, и все рассыплется в прах, и, сбросив прельстительную личину, реальность вскинет на него свою истинную ужасающую морду, завоет, зарычит и разорвет в клочья доверившегося ее ухищрениям простака.
Потому казнить братьев Лакапинов Константин все-таки не решился. Он даже не рискнул предать их поруганию. Братьев, подобно отцу тихомолком постригли в монахи и сослали на острова близ столицы под строжайший пригляд: Стефана — на Приконис, а Константина — на Тенедос. Оттуда они слали во дворец одно за другим прошения дать им возможность повидать отца. Какое-то время самодержец ромеев оставался глух к их мольбам, но вскоре не только дал на то разрешение, но и объявил о своем желании самолично присутствовать при этом свидании.
— Я хочу насытить взгляд! — смакуя каждое слово, обосновал он добытой в библиотеке сентенцией свою причуду перед изумленной матерью; изумленной не прихотью сына, но ростками нового нрава, наконец-то проклюнувшихся из тех зерен мести, которые она так заботливо сеяла в его сердце и поливала желчью угнетенной гордыни.
Взгляд был насыщен вполне. Константин не узнал старика Лакапина. За незначительный, в общем-то, срок он превратился в сущую развалину. Он кормил какими-то объедками небольшую белесую собачонку, требуя от той за вознаграждение становиться на задние лапы, невдалеке от распахнутых кованых ворот храма, когда процессия, большую часть которой составляла разновидная охрана, выступила на площадь. Завидев своих сыновей, наряженных как и он в монашеские рясы, обрамленных сверканием нацеленных на них дротиков, старик затрясся всем телом, зарыдал по-бабьи в голос, выпустив из рук собачье угощение. Находчивая шавка в момент проглотила на даровщину доставшуюся ей поживу и тут же вновь запрыгала вокруг своего благодетеля, весело размахивая пушистым хвостом и раболепно засматривая в позабывшие ее мокрые глаза.
Старик все самозабвеннее рыдал, размазывая толстыми корявыми пальцами по морщинистому лицу слезы, и все что-то лопотал. Шествие приближалось, и те, кто находился в голове его вскоре смогли услышать:
— …как Авессалом восстал на своего отца Давида. Ведь я возвысил вас, дал вам все, о чем только может мечтать любой человек на земле. Чем же вы воздали мне за это? Но видит Господь наши грехи и никого не оставит без суда. Видно заслужили мы его гнев.
В золото-пурпурном одеянии Константин стоял в стороне в окружении тройного кольца вестиаритов, и приятное головокружение от недавнего возлияния бледнело в сравнении с той эйфорией, какую даровали ему в эти минуты ухо и глаз.
— …знать таким испытанием стремится Всевышний спасти нас. А тебе, Константин, скажу: стар я, мне и так уж немного осталось, но знай, нельзя посеять плевелы, а вырастить розы. Вот смотри на меня — и разумей: не замыкаешь ли ты круг зла?
Ну до того ли было в те дни автократору Ромейской державы: замыкает ли он что, круг то будет ли какая иная геометрическая фигура. Его израненная оскорбленным самолюбием душа требовала триумфа. И триумф пришел.
Сначала сердцевину города наводнили несчетные копейщики, манглавиты[252] и прочие удальцы столичных тагм, повсюду угрожающе мелькали их ромфеи[253], дубинки и копья, взывая к гражданским добродетелям жителей столицы. На крышах зданий, обступавших главные площади и находящихся невдалеке от Большого ипподрома разместились таксоты[254]. Форум Константина и Августеон, между которыми (рядом с ведомством эпарха) вполне символично размещалась главная константинопольская тюрьма, блистали давно позабытой чистотой. Внезапно обрушившиеся на столицу ромеев чрезвычайные холода давно отступили, и оттого обочины дорог и площадей ходко заполнялись зеваками. Но их числа, определенно, было слишком мало для создания картины всенародного одушевления, потому специально назначенные люди уже гнали из самых отдаленных уголков этого громадного города толпы разнородного разноязыкого люда.
Празднество зачиналось на площади Августеон. Здесь были выстроены высокие подмостки со сводами для главного украшения торжества — автократора Константина и его блистательной свиты. Для того, чтоб народу было на что посмотреть на царя навесили столько золота, что его хлипкие плечи буквально сгибались под деспотической тяжестью желтого металла. Подмостки были торовато изукрашены яркими тканями, гирляндами из пальмовых и лавровых ветвей, внизу их окаймляли исполнители гимнов и музыканты в цветном платье, но когда распахнулись ворота Халки, слепым глазам черни, удерживаемой на своих местах контарионами[255] каменноликой охраны, показалось будто взошло второе солнце. Великолепные протикторы[256], поражающие и красотой лиц, и статью. В одеяниях подобных морским раковинам, подобных оперению фазанов и крыльям летних мотыльков, магистры, препозиты, проконсулы, патрикии, знатные чиновники и остальные синклитики, иноземные послы и наконец сам василевс — весь из золота. По неоглядной толпе рокочущими перекатами прокатила волна с детства заученных славословий, но несколько голосов, особенно один, надтреснуто-скрипучий, уверенно прорывали, казалось бы, необоримый басистый вал общего гуда.
— О образчик господней мудрости! — жизнерадостно понеслись к бледноватому январскому небу нежные, но вместе с тем властные голоса певчих. — Никогда не устанет народ благодарный восхвалять добродетель твою! Ты смелейший из львов, целомудрием светлым подобен Иосифу ты, среди мудрых ты самый великий мудрец, а пример справедливости божьей, который являешь ты миру, восхищает и варваров диких, склоняя сердца их к добру!
Прелестные голоса здесь достигли такой высоты и тонкости звучания, что казалось нет в мире больше людей способных повторить этот подвиг, но тут вторая партия подхватила их почин, взяв еще на октаву выше, и это было уже подобно голосу самого неба.
— Царь бессмертный средь прочих царей, светлый благочестивый помазанник божий, пусть единодержавная сила твоя дарит праздник за праздником верным твоим благодарным ромеям!
И вновь первые голоса:
— Радость небесная мир наполняет!..
И ликующий рев толпы.
Едва удерживаясь на ногах от своей золотой поклажи, «благочестивый помазанник божий», хоть и был плоть от плоти данной человеческой общности, все равно не мог не трепетать внутренне от пугающей бессознательности этого восторженного оранья. Самым жутким было то, что в прославляющих криках черни он совершенно отчетливо улавливал не то, чтобы искренность, но некую задушевную исступленность. Однако ведь также они превозвышали и Романа Лакапина, и… Им все равно, кто управляет ими. Да-да, все равно. Эту человеческую кучу, слишком разнородную, слишком развращенную ничем не сдерживаемым потоком своих несложных желаний, магнетизирует блеск золота. Им совершенно все равно, кто скрывается под сверкающим златотканым скарамангием, хоть бес с рогами, они способны различать только любезный их всесторонней бедности недосягаемый символ. И хотя именно этот феномен позволяет демонстраторам золотого символа безраздельно пользоваться плодами рук обладателей завидущих глаз, эти же самые обладатели, случись порфироносцу на одну секунду выскользнуть из своей золотой раковины, с предельной беспощадностью растаптывают, разрывают горюна, как всегда неожиданно для них обретшего человеческие черты. Неужели когда-то придет и его черед?
Колющий озноб пробежал по спине Константина, то ли от сырости январской прохлады, то ли от незваных мыслей, и он вновь был ввергнут в непрекращающееся чередование обстоятельств существенности, — патриарх (пока нектаром этого титула все еще пользовался двадцатисемилетний сын Романа Лакапина Феофилакт) закончил свою речь и теперь знаками передавал слово автократору.
— Наша царственность… — вступил Константин.
Как и в ту беспокойную ночь перед сановными заказчиками и доверчивыми физическими исполнителями переворота он говорил о многочисленных заслугах василевса Романа перед ромейским отечеством, на этот раз еще более выспренними эпитетами умащивая их значение, то и дело подкрепляя свои слова ссылками на волю Божью и заветы Константина Великого, он говорил, как будучи друнгарием флота Роман Лакапин доказывал истинность своей веры и мужества, не щадя живота своего сражаясь с врагами Романии, как потом, будучи уже василевсом, строил и щедро украшал церкви города великолепными покрывалами и светильниками, тем самым выказывая свою святость и благочестие, как радел об обитателях монастырей, осыпая дарами их пристанища в Афоне, Латросе, Варахе, Олимпе, как сострадал неимущим, и, что якобы каждый день вместе с ним обедали по три бедняка, получавшие в конце трапезы в дар по номисме. Содрогаясь от тошноты, вызываемой воспоминаниями о самом злокозненном своем враге, Константин тем не менее продолжал витийствовать о не знающих счету его благодеяниях: и о раздаче бесплатных порций пищи для чужеземных путешественников, и о том, как в недавние страшные холода распорядился тот закрыть деревянными щитами портики, дабы снег и холод не могли проникать в прибежища нищих, даже о сострадании тюремным узникам и сбившимся с истинного пути женщинам. Говорил Константин и о своей любви к христолюбивому василевсу, пожелавшему в конце земного пути удалиться от мирской суеты в святой монастырь и посвятить остаток жизни бесконечным восславлениям Господа. В конце же той не слишком искренней речи Константин помянул и тот факт, что царь Роман, стоя на страже покоя державы, неоднократно раскрывал коварные замыслы врагов ромейского народа. А теперь им, нынешним автократором Византии, разоблачен и пресечен в корне чудовищный заговор против его священной царственности.