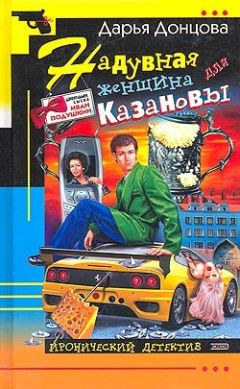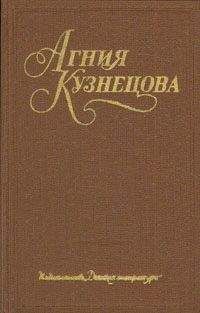Матушкин брился. На пустой бочке стоял желтый осколок зеркала, а в солдатском котелке парила подогретая на «катюше» вода.
— Тьфу! — Матушкин спешил, а старая, наполовину съеденная точилом «опаска» серпом царапнула по щеке. Показалась кровь. Матушкин попробовал зажать ранку пальцем, но ничего не выходило. Сунул руку в карман, вынул кисет. Глаза еще были сужены, но стальной блеск в них пригас: гнев — первый, слепой остался уже позади, жестокость расчетливого урока — тоже.
«Трибунал, значит… Ха, — блеснул он глазами. — Да даже если б и потянуло на трибунал… Ну, сдал бы… А дальше бы что? — Хмурясь, достал из кармана кисет, из него кусочек газеты, заготовленный под табачок, послюнявил его, наложил пластырьком на порез. — Дальше-то что? Двоих уже нет, не воротишь. Забрали бы и этого. А зачем? За битого двух небитых дают. А уж я-то его… Пуще всякого трибунала. — Сокрушенно заскреб пятерней седой заросший затылок, — И зря. Да еще этак-то… Ведь не шкуру ж свою он спасал. Напротив, и себя под удар подставлял. Понят дело? Вот так! — Опять досадливо зачухал загривок. — Эх, как мальца-то я настращал. Ладно. Дай-то бог, чтобы на пользу. — Мыльная пена, ссыхаясь на шее, на ушах, на щеках, казалось, поскрипывала и шипела, бритва подрагивала, зажатая в прокуренных пальцах, лицо, недавно еще деревянное, злое, начинало мягчеть. — Жаль солдат, — ныла и ныла душа. — Эх, да как же не жаль! Ребята совсем. Как Колька мой. — Вспомнив сына, вздохнул. Задумался, погрустнел. — Как он там? В тылу — и то хорошо. А эти… Э-эх, — вздохнул он, — эти, считай, совсем еще и не пожили. — Вдруг подумал, что, наверное, еще и не любили… Сальчук-то и Пашуков. Должно, и не изведали еще ничего. — Но им-то что?.. Им теперь ничего: смерть их настигла мгновенно, не успели и пожалеть ни о чем, слава богу, не мучились. Но отцам-то их, матерям, — снова кольнуло занозой сердце таежника, — боль, горе горькое, неизбывное, ведь на всю-то жизнь… сколько осталось… на всю! Навсегда! Ждут, поди, сынов и не ведают еще… Письма им, наверное, пишут, сынкам-то, а их уже нет». Сунул руку под полушубок. Вот оно, письмо от Кольки, на сердце лежит. Раз десять прочел, запомнил каждую строчку, каждое слово.
«Жутко я хитрый, папаня, стал, — писал ему сын, — все наперед могу угадать. Я ведь как? — хвастал Николка. — Я, папаня, завсегда помню ваш наказ. Давеча рыси двух телок заели, а осенью, я писал уже вам, кошка эта убила ивленского малыша. И у всех в затылке дыра. Так я, папаня, из старого валенка сделал себе на затылок забрало, как на картинке, помните, у богатырей? Бляшек железных на войлок наклепал, шипов. Кинется куцая — сразу не убьет, а я тем часом ее ножом.
Ружья, нам, однако, не дают, боезаряду нема. А я и ночью в тайгу хожу, до самой, считай, Уссурки, до Поросячьей косы. Сами знаете, все полета. Но не думайте, папаня, я завсегда, как вы: все наперед загадываю, рассчитываю, что и как, впросак не попасть чтобы. И письма ваши всегда помню. В толк все беру. Все, все!
Только недолго осталось мне в лесниках-то ходить. Повестка будет на днях в военкомат, дядя Фома сказал, тот, что без ноги. Лесничий он теперя, самый главный у нас в тайге. Пойдешь на фронт, говорит, отца, может, встретишь, поклон ему от меня. А еще говорит, чтобы я рогатину вашу не позабыл взять, и уж непременно прихвати, говорит, свое забрало — немец и побежит.
Нас всех вместе берут: и Луханкова Ивана, и Лешку Старцева, и младшего Сазона.
А от Екатерины Ильинишны, учителки нашей, пока ничего. Как уехала к родному брату в госпиталь, так с тех пор ничего.
А как вы, папаня? У вас как? Дядя Фома тоже вот говорит: что зверь, что фриц — все едино. Их, однако, больше хитростью надо брать, сноровкой. Кто кого.
Не оплошайте, папаня. Немец волком жадным, нахальной росомахой, а вы по-нашему его, по-таежному — рысью тихой, хитрой лисой. Берегите себя. У нас «похоронки» многим уже пришли.
Берегись, родной папочка, один ты у меня».
Сердце Матушкина снова так и заныло. И вдруг словно толкнуло его: так вот почему он сегодня сорвался так на Изюмова, так лютовал. Все дело в письме: Колька, сын, единственный сын уходит на фронт. И страх за него слился со страхом за всех, за чужих, но и своих уже, взводных сынков. Боль, тревога… Скрытые, сдержанные. Вот нервы и сдали, сорвались. Представил себе только на днях поставленного командиром орудия ефрейтора Изюмова, разгоряченного, весь его расчет на голом бугре. Внизу немчура. Ну и палят ребята по ней — за снарядом снаряд. «А Колька? — подумал Евтихий Маркович. — Да разве бы утерпел, будь он командиром орудия? А я? Сам я? Да ни в жизнь! Тоже бы так! Гады, наворотили горя-беды, а теперь утекать? Да я сам бы… Сам! Ишь… Сам бы так же, а на него — с пистолетом да кулаком. Да трибуналом еще. Да, но он же… Если б только нарушил приказ, — пытался оправдать себя Матушкин. — Он же еще… Зато сколько его расчет уложил этих зверей? Десять, двадцать? Может быть, больше? Да, но и наших двоих. Нету двоих! — Матушкин тяжело вздохнул. Метнулся на вставленном в гильзу шинельном сукне огонек, запрыгали тени по стене. Вздрогнуло в зеркальце искаженное горькой мыслью, болью лицо — гладкая синяя скула, лоб в морщинах, под ним в глубине запавшие, тлевшие мрачно глаза. «Немец волком жадным… а вы по-нашему его, по-таежному… Кто кого…» Вот то-то и оно, — грызло и грызло приморца, — кто кого!»
Не мог он, не имел права уступить немцам. И раньше не смел, долг не велел и ненависть к ним, а теперь еще не позволяла и своя, родимая кровь. Матушкин и на секунду не мог допустить, что Кольку убьют, Кольку — последнего сына. Теперь же, после письма, исполнясь за него особенной тревогой, он еще острее страшился и за своих солдат, не знающих жизни, цену не знающих ей, порой беспечных, бесшабашных ребят. Оставалось одно: в предстоящем завтра бою победить, и не любой ценой, а так изловчиться, чтобы не дать немцам убить этих детей. Даже если сперва придется унизиться, снег, землю грызть, хвост даже, может, поначалу поджать, на брюхе ползать, ловчить. Плевать. Пусть думает каждый, кому в башку что взбредет. На рогатину прет лишь спесивый, неумный медведь. А ему бы выиграть бой — без лишних потерь, без смертей.
Осторожность, терпение… Тихой сапой — поменьше торчать на глазах, поменьше шуметь, — это охотнику-промысловику было привычно. Большую часть жизни в тайге, один, только с собаками, в поисках женьшеня, птицы, зверья, Матушкин, чтобы их взять, самому чтобы в когти зверья не попасться, должен был постоянно соображать. Мысль его, словно шустрая мышка-полевка, в иных сложных обстоятельствах оборачивалась по сорок сороков раз на дню, и таких дней бывало немало, считай, что все. И в этом раздолье и плену рискового таежного одиночества, борясь с собой и дикой природой, решая бесконечное множество, порою смертельно опасных проблем, он волей-неволей, сам не зная того, становился подлинным изыскателем и творцом. И потому, соображая теперь в темном сыром погребке, как ему похитрей встретить врага, Матушкин все старался учесть, все снова и снова тщательно взвешивал. То вскакивал, прохаживаясь по погребку, то снова садился.
— Та-а-ак, — удовлетворенно бормотал он. — Понят дело? Вот так! — Наконец решительно встал. Опрокинутое вверх дном ведро, на котором он сидел, железно вздохнуло. Подхватил котелок, плеснул остывшей мутной водой на лицо, обтер его краем полотенца. Взглянул на часы. До ночи еще далеко — все еще можно успеть. Погребение, правда, последние почести. Мертвым, конечно, теперь все равно. Да нужно. Потом еще надо успеть договориться с Лебедем, дозвониться до командира полка. Убедить их оставить две пушки на кладбище. Увязать все с Зарьковым. Затем в полный профиль отрыть огневые, между взводами телефонную связь протянуть. Да и поесть, и поспать еще надо солдатам. А там не заметишь, и ночь пролетит. И рассвет. А с рассветом и бой.
«Может, последний?»- царапнуло Матушкина. Отсекли от основной вражеской группировки две-три дивизии, зажали в кулак. Теперь нечего немцу терять, вот и пойдет, конечно, завтра на все, только бы вырваться из кольца.
«Хоть всех, всю батарею мне положите… Себя положите, а фрица мне удержать!»- приказал комполка да еще кулачищем потряс.
Вспомнив приказ, Матушкин ругнулся и сплюнул. «Ишь, себя положите. Всех положите. — Нахмурился. Снова сплюнул сквозь зубы. — Вот сам себя и ложи, — мысленно бросил он. И вдруг так и пронзило его — мрачно и остро, так и скрутило. — У-у-у, — простонал он. — Коришь, да? А сам-то? Сам! Поднять пистолет! На кого? — с отвращением, с болью поморщился. — Вот так… Не кори. Пугать. Стрелять. Под пули людей подставлять. Ха! Много ли надо на это ума? Да нет… — со злостью выматерился он. — Труднее их сохранить. Верх одержать — и уцелеть. Да! Вот я и придумал. Мне здесь стоять, я и буду решать. Я! Если не я, то кто же еще о них позаботится? «Хоть всех… всех положите», — жгли приморца легкие эти слова. — Не-е-ет! — стиснул он пальцы в кулак. Возбужденно оправил тулупчик, ушанку и, как на зверя, на сезон в тайгу когда уходил, прежде чем выйти из погреба, снова присел на ведро. На минуту притих. Резко поднялся. — С богом, — сказал сам себе. В бога Матушкин, конечно, не верил, так только сидело что-то в душе: надежда, должно быть, на счастье, на случай, смутное чувство какой-то везучести, необоримости какой-то своей. Посуровел и насупился — вспомнил сыновнее письмо: «Кто кого…» — Нет уж, гад. Я, фашистская сволочь, тебя! Я! — приказал, словно внушил себе Матушкин. — Понят дело? Вот так!» И, неспешно взойдя по ступенькам, вышел на свет.