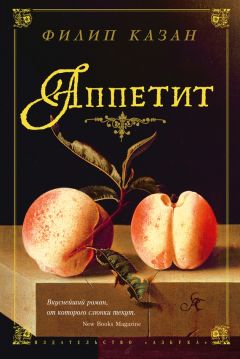Желание… Странно представить человека, желающего быть ограниченным и контролируемым настолько, чтобы его жизнь заключалась лишь в меняющейся череде стен и бесконечно повторяющихся заданий. Но именно этого я жаждал больше всего на свете. Я хотел стать как кусок мяса, уложенный в ящик и засыпанный солью. Я хотел высохнуть и опустеть. Превратиться из того, чем я был, во что-то другое. Мне было все равно, кто или что получится – только бы не Нино Латини с Борго Санта-Кроче во Флоренции.
Так что я оставался в палаццо. Не потому, что боялся города снаружи, хотя и это могло внести свою лепту, но потому, что города были чем-то знакомым. Улицы и люди напоминали мне о том, кем я был. Они возвращали к жизни прежнего Нино, а я только и старался похоронить его. Однако была у меня и другая причина, более практическая. Палаццо располагался не очень далеко от квартала флорентийцев. Это был небольшой участок города, забитый флорентийскими банками, складами флорентийских купцов, домами флорентийских прелатов, послов, лавочников и даже некой эксцентричной флорентийской проститутки.
В один из редких случаев, когда я отважился пройти дальше площади перед палаццо, я случайно забрел туда, ведомый своим носом, потому что близился вечер и слабый аромат нашел меня сквозь все прочие сложности римского воздуха. Люди жарили баттуту: свекольная ботва, раскаленный свиной жир. Я шел на запах как лунатик и, только заметив знакомые гербы на фасадах лавок и банков, осознал, где оказался. Здесь ждала опасность. На пирах Медичи я часто готовил для гостей из Рима, и они могли видеть меня в те вечера, когда мессер Лоренцо вызывал повара в пиршественный зал. Кроме того, я понимал, что Бартоло Барони меня не забудет. На этих улицах могли оказаться люди, которых послали найти меня, – люди, знающие, что, убив меня, они заслужат расположение одного из могущественнейших людей Флоренции.
Как замкнутый маленький мирок, дворец Гонзага оказался лучше большинства тех, что я знавал. Это, в конце концов, была не тюрьма. Я мог выходить, но у меня не было причин и поводов. Так что я позволил Зохану загружать меня работой так сильно, как ему хотелось, а это было все равно что вручить пьянице ключ от винного погреба. Зохан повелевал – я готовил. Кухня подчинялась мне, как страна подчиняется своему королю. Король же отвечает только перед Богом, а здесь не было иного бога, кроме Зохана. Мы трудились всегда. Наш кардинал был человеком ненасытного аппетита, хотя и не худшим чревоугодником в Риме. Зохана наняли, чтобы привнести в кардинальские развлечения немного величия двора Лоренцо де Медичи, но маэстро, при всей своей репутации и мастерстве, обнаружил, что новый хозяин не желает, чтобы его удивляли или озадачивали. Его вкусы были более традиционными: он любил блюда своей родной Мантуи, так что мы готовили много рыбы и утки, горы тыквенных равиолей и риса. В основном мы варили – много чего варили.
Прежний Нино из «Поросенка» или палаццо Медичи умирал бы от скуки среди бесконечных заказов простой мантуанской еды, нескончаемого торжества озерной рыбы и дичи, странного поклонения тыквам. Но Нино, чьим миром стали кухня, чердачная каморка и лабиринт коридоров и лестниц между ними, кажется, уже вышел за пределы скуки. Рутина стала частью процесса, превращавшего меня во что-то иное: в пустого человека, чьей единственной заботой стало верно угадать смысл взмахов деревянной ложки маэстро. Я стремился лишь к тому, чтобы приготовленная мной еда была совершенна и имела ровно такой вкус, какой нужно. Я тоже ел ее – мы хорошо питались на кухне, кардинал был щедрым нанимателем, – и вскорости я изучил еду Мантуи так, будто провел там всю жизнь. Я мгновенно мог сказать, поймана щука в озере Пайоло или Супериоре и в какой застойной протоке выращен наш рис. Я учился, всегда учился, и довольно скоро гости кардинала начали поздравлять его с тем, что он нашел настоящего мантуанского повара.
Меня вполне можно было считать таковым. Я клал мантуанские ингредиенты в мантуанские блюда и не ел ничего, кроме еды Мантуи. Насколько я знал, родной город кардинала выглядел так же, как тот, что я видел из окна: крыши и холм в отдалении. Мне было все равно: мир теперь существовал внутри меня в виде потока крошечных откровений и открытий. Привкус грязи в мясе угрей – и как его можно разложить на неяркую радугу минералов; разные формы тыквы; отличия между мантуанской салями и тосканскими видами, на которых вырос я. Но все лини, вся тыква мира не стоили даже одной ложки Уголиновой похлебки из рубца.
29Рим, 1473 год
У меня вышел небольшой спор с Доннанцо, человеком, отвечающим за кардинальские винные погреба. Я чувствовал, что он обманывает нас, снабжая кухню дурным вином, но виночерпий настаивал, что вино, которое он нам выдает, превосходно.
– Да разве оно не дочиста выкипает? – бурчал он.
– Нет, не дочиста. Я…
– К вам пришли, мессер Нино, – сообщил мальчик-подавальщик, просовывая голову в дверь.
Хмурясь, я покинул нераскаявшегося Доннанцо и вернулся на кухню, где обнаружил у стола высокого, покрытого пылью человека, пьющего вино из кружки под косыми взглядами поваров.
– Привет, Нино!
– Боже правый! Арриго Корбинелли!
– И никто другой.
Я крепко обнял его и расцеловал в огрубевшие щеки.
– Ты выглядишь так, будто переползаешь из одной кучи дерьма в другую, – заметил я, стряхивая со своей одежды его пыль.
– Ползу по ним и в них живу, – отшутился Арриго.
Он будто бы стал еще выше, а его лицо утратило почти все следы юности. Щеки ввалились и густо заросли черной щетиной, а под пыльными черными волосами горели глаза, огромные и обведенные темными кругами. На нем был дублет из фламандского черного сукна, который наверняка стоил кому-то когда-то кучу денег, а сейчас разъезжался по швам, и набивка свисала с продранных плеч. Из-под дублета торчала ярко-зеленая рубаха, закрывая костлявую задницу, а вокруг шеи был намотан засаленный шарф из красного турецкого шелка. Облегающие штаны Арриго тоже когда-то были черными, но потом покрылись заплатами из всевозможных тканей, а кое-где и кожи. Однако сапоги его явственно говорили, что их владелец – человек серьезный, да и меч, с виду испанский, выглядел привычным к передрягам.
– Значит, ты и вправду стал солдатом, – изумленно сказал я.
– Стал.
– Мадонна… И бывал в боях?
– В небольших. – Арриго развел большой и указательный пальцы, как бы показывая зернышко риса. – Мелкие стычки на юге. Я нанялся к кондотьеру на жалованье у Ферранте Неаполитанского сражаться с французами: он пытался выпихнуть французских кузенов со своих земель. А потом турки с набегами на восточное побережье. Потом мой отряд перекупили, и мы пошли на север, чтобы присоединиться к армии Монтефельтро.
– Замечательно. А кто ты, копейщик или кто-то вроде?
– Копейщик? Я офицер!
– Да ладно! – Я оглядел его с головы до ног и обратно. – У тебя штаны с задницы сваливаются.
– Я офицер без жалованья, – устало хохотнул он. – Вот почему опять еду на юг. Солдатское дело лучше оплачивается в Неаполе. По крайней мере, такие слухи ходят. Король Ферранте всегда воюет. Там есть перспективы. Я просто остановился здесь на ночь и, честно говоря, даже не думал, что найду тебя.
– Тебя надо покормить, парень. Пойдем, присядешь.
Я отвел его в нишу, где устроил себе крошечный кабинет: сосновое бюро с ящиками и табурет писца. Усадив Арриго, я пробежался по кухне, громоздя на поднос всякую добрую сытную еду: колбасу собственного изготовления, сыры, фиги, холодного фазана, немного устриц, которые приберег себе на обед. Когда я плюхнул перед другом поднос, он налетел на него, как паук, заворачивающий в паутину жирного мотылька.
– Когда ты в последний раз ел? – спросил я, поражаясь тому, как жадно он глотает.
Я никогда не видел, чтобы Арриго проявлял хоть какой-нибудь интерес к еде, – и вот он, пожалуйста, высасывает устриц, словно маленькие сгустки амброзии.
– Во Флоренции, – ответил он между глотками. – Я пошел в «Поросенок» – куда ж еще! Там все так же. Твой дядя…
– Ты видел Терино?
– Жирный, как клещ, можешь не спрашивать. Мне пришлось просить поесть в долг, и он чуть в штаны не навалил от злости.
– А мой отец?
– Я забежал к нему, конечно. В лавку. Выглядит он хорошо.
Арриго отвернулся и занялся фазаньей ногой.
– Что еще? Давай, Арриго! Что он сказал?
– Нино, он думает, что ты мертв, – огрызнулся Арриго. – По правде говоря, он выглядит совсем не хорошо. Он не получал от тебя ни слова. Ну и что он должен думать? Ты что, письмо ему написать не мог?
– Это было трудно, – замялся я.
– Трудно? Твой отец выглядит так, будто у него на плечах висит двадцать лишних лет. Нино, все думают, что ты мертв. Но нет, вот он ты, гладкий, как кот… Ты что, одно чертово письмо написать не мог?