Что касается Тимофея Евлампиевича, то он уже посчитал, что слова Сталина, сказанные им при прощании на даче о том, что они еще увидятся, и пожелание, суть которого состояла в том, чтобы товарищ Грач не пропадал надолго, были не более чем дежурными фразами, которые обычно и полагается говорить в таких обстоятельствах. Но, видимо, он еще недостаточно изучил характер вождя, иначе бы он знал, что Сталин слов на ветер не бросает, и что в каждом его слове содержится или то, что уже решено и потому не нуждается в сокрытии, или же тщательно упрятанный подтекст, смысл которого настолько многосложен, что каждый может понимать его по-своему. И потому новое приглашение Сталина приехать к нему на дачу явилось для Тимофея Евлампиевича почти такой же неожиданностью, как это было и в первый раз.
В тот день, когда за ним приехала машина и появились уже знакомые ему сопровождающие, Тимофей Евлампиевич был в прекрасном расположении духа и оживленно беседовал с навестившими его Рябинкиным и Сохатым. Школьный учитель истории Рябинкин, как обычно, устремлял свою беспокойную, мятущуюся душу в далекое прошлое, стараясь доказать, что абсолютная свобода личности от государства есть самая сущая бессмыслица. Сохатый же требовал таких условий в обществе, при которых душа была бы раскрепощена, раскована и никто не был бы заинтересован подслушивать чужие мысли и опрометью мчаться, чтобы рассказать о них кому следует, стремясь сделать на этом если не головокружительную карьеру, то хотя бы получить (пусть и незначительный) приработок к своей основной зарплате.
— Грозные цари взнуздали, измучили Русь, но это им можно простить, ибо они поставили прочный заслон на пути ее развала, не дали расползтись по безбрежным просторам,— говорил Рябинкин, задумчиво глядя куда-то поверх голов своих собеседников, будто там, в неведомой мгле, ему и виделись эти самые русские самодержцы, пленяющие его своей мудростью.— Взгляните на Московский Кремль! Это же орел, низвергнувшийся с небес прямо в сердце многострадальной России! Если бы не Кремль, у нас с вами была бы не великая держава, а океан удельных княжеств, готовых перегрызть друг другу глотки.
— Это вы так ратуете за грозных царей потому, что еще не испытали счастья побывать на Соловках,— возражал ему кряжистый, будто сработанный из мореного дуба, Сохатый.— А мой родной брат уже пребывает в сих проклятых Богом местах и по ночам воет на луну. Они довели его до сумасшествия, ваши любимые самодержцы. А что он им сделал? Стрелял в Сталина? Подложил динамит под Спасскую башню? Просто он был настолько простодушным глупцом, что имел неосторожность при свидетелях сказать, что Сталин — деспот. И утверждал, что при всяком социальном взрыве полетят миллионы голов.
— А вы не боитесь произносить столь крамольные речи при свидетелях? — в пику Сохатому осведомился Рябинкин. В его вопросе содержалась немалая толика яда.
Сохатый уставился на него тяжелым, угрюмым взглядом, но отчего-то побагровел.
— Надеюсь, что среди нас нет и не может быть стукачей,— назидательно произнес он.
— Друзья, я призываю вас лояльно относиться друг к другу,— попытался «разнять» их Тимофей Евлампиевич.— В сущности, мы мыслим одинаково.
— Увы! — мрачно воскликнул еще более насупившийся Сохатый.— Разве вы не чувствуете разницу в нашем мировосприятии?
— Так это же и прекрасно, коли есть разница! — со всею возможною убедительностью проводил свою линию Тимофей Евлампиевич.— Единомыслие — страшное зло. Оно превратит общество в болото, а людей — в роботов.
— Извини, Тимофей Евлампиевич, но тебе пора записываться в священники,— почему-то обиделся Сохатый.— Я, как врач, утверждаю, что натура человека закладывается еще в утробе матери. Есть человек — тип хищного зверя. И есть человек — тип домашнего животного. И если придерживаться этого заключения, то Сталин, на которого ты, Варфоломей Рябинкин, возлагаешь столько надежд, несомненно, относится к первому типу.
— Я не боготворю Сталина,— сказал Рябинкин, поражаясь смелости Сохатого.— Но он мне импонирует как государственный муж, способный удержать Россию от развала. И в этом отношении он прямой продолжатель того, что свершили Иван Калита, Петр Первый, Иван Грозный…
— Сравнил хрен с пальцем,— буркнул Сохатый, видимо не находя доводов опровергнуть то, что утверждал Рябинкин.
— У вас, Прохор Кузьмич, удивительная способность перелопачивать чужие мысли и выдавать их за свои,— как можно мягче, даже с улыбкой, сказал, повернувшись к Сохатому, Тимофей Евлампиевич.— Вы, кажется, изрядно начитались Ницше.
— Плевал я на вашего Ницше! — взорвался Сохатый.— Это у вас круглые сутки свободны, так вы и можете позволить себе читать всяческую галиматью хоть до одурения. А я — ветеринар, еще не проснусь, а у меня под окнами уже корова мычит. Или собака скулит. Лечиться пожаловали. Я не книжный червь, я практик. Истинный же практик должен с презрением смотреть на книжных червей, полагающих, что всемирная история есть дело духа.
— Прохор Кузьмич, у вас же все равно ничего не выйдет! — азартно воскликнул Тимофей Евлампиевич.— Меня никто не способен вывести из себя. Напрасная затея! Давайте лучше опрокинем еще по рюмашке!
— Такой книжник мне по душе,— одобрительно загудел Сохатый.— Давно бы мог додуматься.
Так случилось, что как раз в это время за Тимофеем Евлампиевичем прибыли посланцы Сталина. Сохатый поперхнулся и поспешно убрал недопитую рюмку. У него был такой вид, будто это именно его приехали забирать, чтобы тут же препроводить вслед за братом в знаменитые Соловки. Рябинкин изумленно, но без испуга смотрел не мигая на вошедших.
— Придется слегка потревожить вашу веселую компанию,— почти с искренним сожалением сказал один из посланцев.— Товарищ Грач, мы за вами. Прискорбно, конечно, что вы не совсем трезвы. Это могут не одобрить.
— Не огорчайтесь,— поспешно заверил их Тимофей Евлампиевич.— Это всего лишь третья рюмка. Я трезв как стеклышко. Вот если бы вы приехали на часок позже… Хотите коньячку?
— Благодарю, но мы очень спешим,— отклонил приглашение посланец.
Тимофей Евлампиевич попрощался с друзьями.
— Думаю, что я сегодня вернусь,— заверил он их.— А если нет, не забудьте запереть дом и отдайте ключ соседке. Продолжайте вашу интересную беседу. Только не пускайте в ход кулаки.
…Перед встречей с Тимофеем Евлампиевичем Сталин неспешно прогуливался по березовой аллее. Он только что прочитал новые статьи Троцкого, опубликованные в зарубежной прессе. Главным героем этих статей был, естественно, именно он, Сталин. С каждым разом нападки Троцкого на него становились все более озлобленными и агрессивными, и потому Сталин сейчас был в самом неблагоприятном расположении духа.
Вне всякой связи с предыдущими мыслями Сталин припомнил библейское изречение, суть которого состояла в том, что время неподвижно, это движемся мы, наивно полагая, что летит время. И поймал себя на мысли, которую всегда тщательно прятал от всех: то, что он, будучи юношей, попал в духовную семинарию, не выветрится из него никогда. Это Ильич был воинствующим атеистом, вот Бог и прибрал его так рано. Ему бы еще жить да жить! Уйти в мир иной в пятьдесят четыре года — не рановато ли? Нет, нельзя противопоставлять себя Богу, это грозит смертельной опасностью!
Между тем машина, в которой везли Тимофея Евлампиевича Грача, уже приближалась к сталинской даче. День был солнечный, по-осеннему нежаркий. Природа уже вовсю «поработала» над лесами, рощами и полями, перекрасив их в свой любимый золотисто-багряный цвет. Воздух был чист и прозрачен, Тимофей Евлампиевич жадно вдыхал его через открытое окошко машины, будто дышал так вольготно и раскованно в последний раз. Что из того, что Сталин отпустил его с миром после первого визита? Диктаторы непредсказуемы, трудно, просто невозможно предугадать, что им взбредет в голову в следующую минуту. Самый безопасный диктатор — это мертвый диктатор, в промежутке же между рождением и смертью, который как раз и получил название «жизнь», от них можно ожидать что угодно — от милости до изничтожения.
Уже то, что в этот раз Сталин встретил Тимофея Евлампиевича крайне неприветливо, более того, чуть ли не враждебно, словно бы тот нагрянул к нему на дачу без всякого приглашения, повинуясь лишь собственному сумасбродству, навело его гостя на весьма невеселые предчувствия. Это уже был совсем другой Сталин, в котором исчезли неведомо куда мягкие тона как в самом его облике, так и в голосе. Сейчас он был как крепко стиснутая пружина, готовая внезапно распрямиться со всей возможной остервенелостью. «Кажется, играм приходит конец»,— с тоской подумал Тимофей Евлампиевич.
С тем же мрачным, отчужденным видом Сталин пожал руку Тимофею Евлампиевичу и спросил прямо в упор, не скрывая злости, как спрашивают человека на следствии, когда он упорно не желает давать нужные следствию показания:
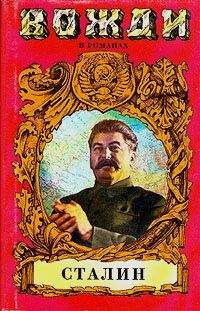

![Картер Браун - Том 13. Пуля дум-дум [Тело. Жертва. Пуля дум-дум. Бархатная лисица]](https://cdn.my-library.info/books/142921/142921.jpg)


