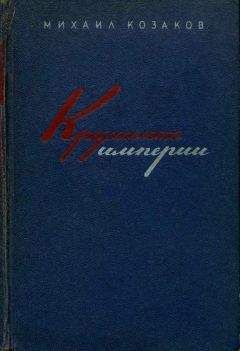У «тенорка» был льстивый, фарисейский рот и вогнутый, как дно тарелочки, лоб молодого дегенерата из благовоспитанной чиновничьей семьи. «Тенорок» вызванивал всем, что знаменитая «Вандомская колонна увенчана была («Чем, чем?» — выкрикивал и захлебывался он…), увенчана изображением полководца», а «что, что воздвигли мы в центре этой единственной в мире площади?» — «Столп, чем увенчанный?»
— Над Александровской колонной вознесен, господа, символ страдания — крест!
Окружающие слушали, нетерпеливо поглядывая на дворец.
— Глядите, глядите на эту площадь: символика!.. Наш русский характер!.. — уже терял свой голос «тенорок», но не унимался. — Все здесь как будто нарочно создано для народной военной манифестации…
И он объяснял. Полукольцом замыкается площадь Главным штабом с его гениальной римской аркой и ее колесницей Победы, влекомой шестью лошадьми. Но с другой стороны — величавая завеса Зимнего дворца… «Капризная прелесть его, господа, ни единым, изгибом линий не напоминает о военной суровости. Так и в русской душе, — задыхался «тенорок», — порыв воинственности живет, неразрывно связанный с веселым миролюбием…»
— Нас оскорбили… Оскорбили нас, славян, — и мы покажем теперь… Мы разобьем Берлин вдребезги!..
— Ишь ты… молотобоец языком!
— Что? Кто это сомневается? Вы слышали, господа?..
— Я сказал. Я… Вдребезги? Не всех коли, говорю, хоть одного на племя пустим! А ты, падаль говорливая, на русско-японской трудился… а? А я был!
— Держите… держите, господа! Шпион, австрийский шпион!
— А почему именно — «австрийский»? — услышал Иван Митрофанович позади себя чей-то насмешливый знакомый голос, рассмешивший окружающих, давших возможность порицателю «тенорка» куда-то нырнуть.
Оглянувшись, Иван Митрофанович не сразу заметил маленького быстроглазого Асикритова. Журналист не стоял на одном месте, а пролезал ужом куда-то в сторону, отдаляясь от Теплухина. Иван Митрофанович хотел его окликнуть, но раздумал.
— Гляди, гляди — начинается! — прошелестело вдруг в толпе, и она качнулась немного вперед, подтолкнув своих знаменосцев.
— Выпустите… пропустите — старушке дурно стало!
— А чего перлась?
— Городовой, помогите!
— Петь надо будет, а у меня, недавно ангина была…
— Несут…
— Кого? кого?
— Старушку.
— А-а…
— А вы потом смажьте горло.
— Тише-е! Выходят!
— Бо-оже, царя хра-а…
— Да нет же, Митя, — не царь!
— А я вот, Антоновна, и говорю ему…
У Ивана Митрофановича ныли от усталости ноги. «Подожду минут десять и уйду», — решил он.
Но вот все время не сообщавшийся с площадью дворец сделал первое движение. Распахнулись на некоторое время ворота с массивными вензелями, чтобы выпустить чьи-то экипажи. Это уезжали домой певчие придворной капеллы.
— Сейчас, сейчас!..
Глаза всех обращены на второй этаж дворца, где вдруг подскакивают вверх висящие изнутри сторы и медленно раскрываются две боковые двери на средний балкон.
Ток четырехчасового ожидания с новой — предельной — силой выпрямляет толпу. Она напряженно всматривается в раскрытые двери. Ближе к балкону, в зале дворца видно какое-то движение.
Кто-то шепотом вспоминает: с этого самого балкона Александр второй читал свой манифест о крестьянах.
Движение в зале, и народ отчетливо увидел вышедших на балкон людей.
— Бо-о-же, царя…
— Тс-с-с, вы!
На балкон вышли два камер-лакея в красных, обтянувших фигуры камзолах. В руках каждого были метелки из перьев, а лица лакеев — с гладкими, голыми подбородками и пышными оттопыренными бакенбардами — удивительно схожи были с лицом всем известного по портретам председателя совета министров.
Камер-лакеи, глядя на толпу, вытирают перила и гуськом исчезают. Еще минута — и у стеклянных дверей показываются плечи и спины царедворцев: великие князья и свита.
Затем вновь это куда-то отхлынуло, и на балкон, шагнув на то же место, где только что стояли лакеи, вышел царь, сопровождаемый Александрой.
Их узнали. И вдруг толпа упала на колени, как огромный непроезжий лес, срезанный мгновенно под корень. С высоты балкона те, кто не упал, — тоже казались коленопреклоненными.
— Ур-ра-а! — полетели в воздух картузы, шляпы, фуражки.
— Боже, царя храни!
Толпа, склонив знамена, запела гимн. Царь, оглянувшись, протянул руку Александре и подвел ее поближе к перилам.
Где-то близко на флагштоке реет в синей выси огромный императорский штандарт. Светло-желтый стяг с изображением орла играет с мягким июльским ветром.
С балкона площадь кажется покачивающейся, наплывающей палубой огромного корабля, а Александрова колонна — на фоне бегущих лиловых облаков — его вознесенной мачтой.
И — кто знает? — может быть, видит своевольная немка, владеющая этим всесильным русским офицером и его страной, может быть, видит она эту самую площадь по-иному, чем он, — так как хочет того истерически-ненавидящее сердце… Может быть, кажется ей, что раздавлена сейчас на этой площади — как в январе 1905 года — под тяжелым постаментом царственной колонны строптивая, непонятная и страшная в своей неразгаданности страна — Россия?..
— Спаси, господи, люди твоя…
Не спасет он, нет!
Царь был доволен. Он сделал еще шаг вперед, поднял руку и, казалось, хотел что-то сказать.
— Тише, тише! — просили те, кто стоял ближе к дворцу, но в конце площади видели только крошечную — оттуда — голову государя и белую высокую шляпу Александры и не унимались.
— Ур-ра! Ур-р-ра-а!
Тысячи кликуш в соломенных шляпках, в платочках горничных и с непокрытыми головами, с растрепавшимися волосами обессиленных фурий, плакали, выли и крестопоклонно стенали.
— А-а-а…
В миг, когда толпа упала ниц и: словно еще выше поднялся тогда дворец, Иван Митрофанович вместе со всеми подогнул ноги, и одно колено его коснулось земли. Да, да — и здесь он смалодушествовал, он испугался, остаться стоять во весь рост среди всего коленопреклоненного народа!
Теплухин смотрел уже не на балкон, а на землю — на кусочек выпуклого, круглого булыжника. Но это продолжалось одну только секунду. Теплухин нерешительно, воровски поднял голову и увидел вдруг прямо перед собой выпрямленное широкое дамское пальто.
Он скосил глаза чуть набок. Седая крупная женщина с дородным благородным лицом генеральской вдовы, имеющей что вспомнить в жизни, со спокойной умиленностью лорнировала балкон. Рука в шелковой желтой перчатке уверенно держала у глаз золотой старинный лорнет.
Тогда Иван Митрофанович тихонько, медленно поднялся, прячась за ее спину, — но, не разогнувшись в полный рост, а оставшись согбенным, упираясь руками в колени, опустив голову, как стоят люди, играющие в чехарду.
— …Царствуй на сла-а-аву нам-м…
— Тише, тише! — озирались передние ряды: они думали, что услышат голос государя.
Но Николай, стоя спиной к площади, смотрел, улыбаясь, на императрицу. Она повернулась вполоборота к дверям, лиловые повелевающие губы снисходительно подергивались.
Она переступила порог, — царь отступил от перил и, оглянувшись на толпу, медленно, бочком пошел к двери.
И в это время толпа, вскочив на ноги, давя друг друга, стремительно передвигается вперед, словно желая удержать удалявшегося монарха.
— Ур-р-ра!
— Бо-о-же, царя храни…
Не помогает. Силуэты пропали где-то в глубине зала, кто-то, невидимый теперь, закрывает двери на балкон, и падают стремительно изнутри непроницаемые сторы.
Не то кричат, не то беззвучно хохочут разинутыми ртами с красных стен дворца лепные арабески. И только…
— …Поворачивай назад!
— Ну, ты — полицейская бляха!
— А-а? — Р-р-р…
Картавый полицейский свисток.
— Мимо дворца закрыт ход, говорят тебе!
— А мне на Миллионную…
— Так мне пройти только, братцы!
— Господа… городовой, городовой! Держи-и!
— Кого?
— Часы и цепочку срезали…
— Вот-то дело — а? На сухом берегу рыбу ловят.
— Хо-хо-хо!..
— Знаменательный день! Исторический день!
— Вернем мы им Берлин или нашим останется?
— Неужели социалистов теперь не повесят, Котик?
— Веч-че-ерняя «Биржевая»!
— Сеня, говорю, брось! А он ее, ведьму, чертохвостит, чертохвостит… Бедовый!
— Царь-батюшка на груди с Егорием, а она, сказывают, с Григорием!
— Тс-с-с, дурак!
— Веч-че-ерня-я «Биржева-а-я»!
— Газетчик, покажь!
— Давай, давай!
— Барышня, я раньше уплатил… Ну, что за свинство… вырывать!
— Газетчик, газетчик!
— Читай, Юленька, вслух…
…Иван Митрофанович мельком, на ходу, пробегал глазами первую страницу газеты. Что это? Подлинно, по Европе шли взрывы один за другим: выстрел Гаврилы Принципа детонировал ее.