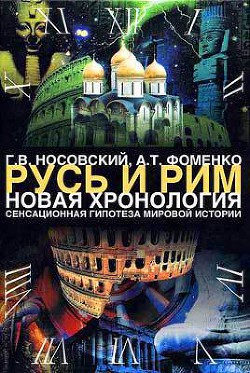про свою госпожу, терялась в догадках, что происходит с нею, а уж про странствующих людей и этого не скажешь, их подавляла перемена в Рогнеде. Все ж они не торопились поменять свои пути-перепутья и теперь еще забредали на Рогнедин двор и хотя бы изредка и издали любовались княгиней. Ощутив подавленность в ней, хотели бы вывести ее из этого душевного состояния, и не умели ничего предпринять, и тогда многим приходила в голову мысль, что они противно недавнему своему убеждению покинули отчину для праздного времяпровождения, а не для того, чтобы подвинуться к истине. Были среди них люди разные: и смолоду сроднившиеся с нуждой, и те, кто высоко стоял по праву рождения, но со временем осознал бесполезность бытия, коль скоро не воссиял над отчим подворьем свет, предвещающий славное перерождение. Они жили одной надеждой: вдруг на тропе странствий откроется им свет истины, и тогда поменяется в жизни, и люди пойдут за ними и сделаются все братья и сестры. И не беда, что иной раз мучительно тягостно становится их хождение по тропе странствий, когда нет-нет, да и упадет ослабевший и застынет в его глазах недоумение и жалость к себе, так и не приблизившемуся к истине, не отыскавшему к ней дороги. А бывало и так, что вдруг менялось в душе у странствующего, делалось гнетуще от шальной мысли, что ее и нету на белом свете, сокрыта она в других мирах, недоступных человеческому сознанию. И тогда странник откачивался от своего недавнего убеждения и, сломленный сердечным гнетом, сходил с тропы. По-разному случалось. Но это никак не влияло на тех, кто хранил верность надежде. Они с прежним упорством, часто непонятным в миру и принимаемым за блаженство, которое, впрочем, есть в них, но не от слабости разума, а от высшего проявления человеческой сути, продолжали свой путь…
Так что же Рогнеда?.. Неприютность в душе у нее от слухов, что бегут по русским осельям, слухи эти о Владимире. Вдруг, да и скажет иная из странниц незлобиво, как бы в угоду Рогнеде, что у Великого князя много наложниц, едва ли не в каждом городище отыщешь оную. Скажет так-то чуть только помнящая про себя и отойдет в сторону да пытливо посмотрит на Рогнеду. О, не однажды она примечала это, и все больше укреплялась в досаде, хотя не место бы ей в душе. Разве не на любви и миры держатся? Вон и в Ведах сказано, что от мужской силы и жизнь в родах, продолжение ее. И не женкам с их слабым умом страгивать тут что-то… Все так, так… Но тогда почему на сердце тоскливо? Среди ночи проснется, откроет глаза и увидит тихое и дрожащее сияние от подвешенной к высокому потолку светелки, и потянется к нему точно бы к чему-то дарующему надежду, и тихо промолвит, что Владимир не забыл ее и скоро приедет к ней и скажет ласковое слово. Но ближе к полуночи сияние меркнет, и время спустя темнота зависает над светлицей. В душе у Рогнеды тоже утемняется, и она видит уже совсем не то, что прежде, не тихое и дрожащее сияние под потолком, а тени убитых братьев, отца. Тени так четко и ясно различимы в загустевающем сумерке, что ей делается страшно, появляется желание прогнать их, но желание слабое, легко подавляемое другими чувствами, и вот уже она во власти чего-то дальнего, неземного, и она говорит чуть слышно:
— Я вижу тебя, отец, и жду твоего слова…
Она и верно, ждет, напрягшись и со вниманием вглядываясь в полутьму. А отец медлит и смотрит совсем не на нее, а куда-то в сторону.
— Мне плохо, — говорит Рогнеда. — Ничто не радует меня, даже дети. Они с каждым днем все больше похожи на него. И это пугает.
Рогнеда еще долго говорит о себе в надежде, что отец обратит на нее внимание и что-то скажет, но тень его, ярко и четко обозначенная, неподвижна и холодна. Ей точно бы все равно, что происходит с нею, и это странным образом действует на Рогнеду, в душе у нее появляется что-то такое, отчего она едва ли не забывает о причине беспокойства и сама в духе своем обращается в тень и тоже делается неподвижна и отдалена от жизни. Она далеко отсюда, от светлицы, от полусумрака, зависшего над покоями и еще недавно так угнетавшего. Она теперь что-то другое, и это, другое, уже ни в чем не нуждается, даже в отцовском утешении. Она не принадлежит себе, но небу, прозрачно-синему с дивно легкими облаками, а вместе земле-матери с густыми, вечнозелеными раменями и широкими полноводными реками. И в этой своей принадлежности к сущему Рогнеда улавливает даруемое ей Сварожичем. Она ощущает тепло, упадающее от него, согревающее в душе, и желает только одного, чтобы недвижение, вознесшее над жизнью, продолжалось как можно дольше, не сдвигаемое злыми ветрами. Но в какой-то момент она ощущает едва улавливаемое колебание в пространстве, тогда и в ней страгивается что-то, и это при том, что она не хотела бы сего, только теперь мало что зависит от нее, ведь и она стала частью пространства, которое, как бы даже беспричинно, впрочем, наверное, и тут существовала причина, сдвинулось с места, восшевелилось, поломало привычную обращенность к извечному. В пространстве обозначилась сменяемость, и это было ничем не объяснимо. Рогнеда всегда полагала, как и все, поднявшиеся под русским солнцем и обращенные прорицаниями волхвов ко всеблагому Небу, что там, в неизъяснимой глубине его, во всякую пору царит неизменность, и там ничто не стронется с привычного места, и райские дали сиятельны и благовонны и никакая сила не поменяет в них. Но, очнувшись и снова обретя себя в земной жизни, Рогнеда поняла, что это не так, и там происходит что-то, и там все пребывает в напряженном ожидании чьего-то пришествия. В смятении, которое, впрочем, не гнетуще, а как бы даже ослабленно душевной ее обращенностью к этому пришествию, она посмотрела туда, где еще недавно видела тени отца и братьев, в надежде, хотя и слабой и ничем не подкрепляемой даже в ней самой, услышать от них, что же происходит в вечном синем небе, но не нашла их на прежнем месте и, странно, не удивилась, не расстроилась, точно бы в глубине души знала и про это.
А в окошко светлицы уже пробивались дрожащие лучи надвигающегося утра. Но понемногу, неприметно для глаза, они укреплялись, расталкивали тьму, высветляли окошко, падали на дальнюю учерненную стену легкими прыгающими зайчиками, дивно