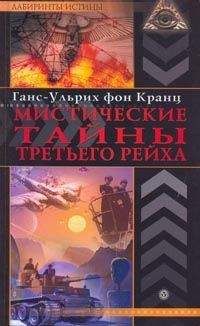Работников староста оставил приглядеть, чтобы старый колдун не пришел сюда кудесничать снова, а сам отправился в имение. Он трусил мелкой рысцой, время от времени злобно шипел и кому-то грозил дубинкой. Голытьба, калека, смерть на пороге стоит, а все не унимается, смеет его, старосту, срамить и поносить!.. Спалить все это гнездо, с землей сровнять, чтоб и места не нашли…
У Холгрена был гость — приходский священник из Лауберна. С утра еще сегодня послал за ним ключникова мальчишку с приглашением — надо же обговорить то да се насчет завтрашнего венчания. Этот стервец все еще не пойман — хоть и в лаубернские леса удрал, да все равно неспокойно, Вдвоем с Сусуровым Клавом они, положим, больших дел не натворят, да ведь кто же его знает, что может быть! И вот эта-то неизвестность все еще беспокоила управляющего. Кто ведает, что такому ошалелому может взбрести в голову! Но что бы ни взбрело, а пресечь должно в корне. Рога обломать, с прахом смешать — какое же может быть почтение и страх перед управляющим, если дать волю этакому негодяю? И главное, что скажет молодой барон о подобных порядках? Нет, теперь отступать уж нельзя! Завтра же Майю повенчать с Тенисом, и кончено дело. Вот об этом он и хотел поговорить с пастором.
Все обговорили и порешили. Да и закусили толком, — теперь можно и поболтать за стаканом вина. В подвале еще от старого Брюммера сохранилось несколько бочонков — обжигало, что огонь, и язык развязывало. И голова лучше соображала, и на душе стало спокойней, и от сердца отлегло. Сидели они наверху, в зале, расстегнув камзолы, с потными лбами, у пастора вся гладкая макушка блестела, точно салом смазанная. Обоим хотелось говорить, и они часто перебивали друг друга. Пастор, привычный работать языком, всегда: одерживал верх, но до размолвки никогда не доходило. Оба любили хорошо поесть, на этом-то у них и завязалась самая тесная дружба.
Вот и сейчас, держа стакан в правой руке, священник устремил указательный перст левой к блюду, уже наполовину опустошенному.
— Поросенок у вас всегда достоин похвалы, господин фон Холгрен. А вот свинина у меня получше будет. Мне кажется, что вы колоть должным образом не умеете.
— Есть у меня один такой — Рыжим Бертом прозывается, — он каждый год колет.
— Он хоть и колет, но настоящий-то резник — вы.
— Рыжий Берт хорошо колет. Еще не бывало, чтобы у него скотина с одного раза не кончалась. Только мерку водки паршивцу каждый раз давать надо.
— Кончается — вот в том-то и суть. Я, когда ем вашу свинину, всегда чувствую: добрая, м-да, но не мастерская работа. Я вам сейчас поведаю, как надо, господин фон Холгрен. Перво-наперво надо воткнуть нож хоть и глубоко, но не очень — пальца этак на три, не больше. Пусть кровь стечет, хорошенько пусть стечет. И тогда еще немножко, и пусть все стекает. Не меньше чем часика два этак надобно. Почему ваше мясо не такое вкусное? Я вам скажу почему, господин фон Холгрен. Потому что в нем нет-нет, а кое-где в маленьких жилках еще остается немного крови — маленькие, маленькие капельки, может, их и не разглядишь, а все ж есть. Видите, и вот как раз это-то и портит весь вкус. Надобно так, чтобы ни единой капельки не оставалось. Так, как иудеи режут телят и овец. Иудеи — некрещеное, богом проклятое племя, а резать все же умеют. Учиться у иудеев нам не подобает, но у Моисея — можем. Моисей был избранник господень, господин фон Холгрен. Я никогда не упускаю, всякий раз сам слежу, как свинью колют, господин фон Холгрен.
Холгрену особенно льстило это непрерывно подчеркиваемое, хотя и не положенное ему, но все же такое желанное «фон». Несмотря на обычную скупость, пастору он наливал не скупясь.
— Это возможно, это вполне возможно, господин пастор. Придется попробовать.
— Попробуйте, попробуйте и не пожалеете. Видите ли, господин фон Холгрен, что я еще хотел вам сказать. Примите во внимание: хорошая пища и настроение хорошее придает. Вы столь озабочены приездом молодого барона, но я вам говорю: хорошенько кормите его, и все остальное хорошо будет. Накормите своих мужиков в воскресенье на свадьбе, и никто о вас дурного слова не скажет.
— Да я же сказал вам, что решил это сделать. И все же на сердце как-то неспокойно. А когда на сердце неспокойно, то и в голову лезут всякие мысли. Вот только что мне пришло: с чего бы все-таки он так нежданно собрался домой? Уж не пожаловались ли на меня? Вы не можете себе представить, господин пастор, какие мошенники эти мужики.
— Преотлично могу представить. Я здесь немного дольше живу, чем вы, господин фон Холгрен, и этих негодяев знаю. Только на сей раз, мне кажется, ваши опасения напрасны. Если молодой Брюммер и едет домой, то сему есть, надо полагать, иные причины. Ныне помещики собираются со всех сторон.
Священник оглянулся, оглядел зал и пригнулся поближе.
— Письма Паткуля и короля Августа призывают их вернуться в свои лифляндские имения.
Холгрен задумчиво поглаживал бороду.
— Вы думаете, из этого выйдет что-нибудь путное?
— Выйдет или нет, я не могу сказать, а было бы неплохо… Оба мы лютеранской веры, не так ли, господин фон Холгрен? Шведы также лютеране, да? Польские времена я не застал, иезуиты изгнаны, а лаубернская католическая церковь разрушена еще в годы Густава Адольфа. С католической и языческой верой нам во имя Христова евангелия надлежит бороться и по сегодня — мы только что говорили об этом. Но мне все же кажется, что под поляками было бы лучше и вам и нам. Польский король не объявлял никакой редукции, собственность у помещиков не забирает. Какого-нибудь спесивого, но глупого наместника-пана мы живо к рукам прибрали бы. А ныне, что шведы ныне творят? Школы, богадельни, суды для мужиков, оценка земли, ваккенбухи — чисто вельзевуловы деянья! У меня у самого пятнадцать хозяев, а разве я смею в неурожайный год увеличить им подати? Сейчас же суют в нос ваккенбухи. Мне — ваккенбух! Плевать мне на их бухи! Я сам есть бух, сам господин! Даже выдрать какого-нибудь стервеца или бездельника могу только тайком, чтоб никто не видал и не слыхал! Да разве это порка, разве это порядок?
Холгрен, искренне сочувствуя, кивал головой.
— Я вчера посулил всыпать всем двадцати семи мужикам, если не схватят мне этого беглого бунтовщика. Заслужили, падаль этакая, а все равно пришлось помиловать.
— Ныне надо быть осторожным, очень осторожным. Вам еще ничего, до Риги далеко, ваши лапотники туда не так скоро добегут. А у меня Холодкевич под боком, тому всегда шепнуть могут. А он со шведами якшается — сам католик, а с ними якшается. Те уж всякого примут, кто на их стороне стоит, да и аренду он аккуратно платит.
— Мы с Холодкевичем в ладу.
— И весьма прискорбно — я уже про то слышал. Как он этих мужиков испортил — и своих и моих. При бароне Шульце были времена так времена, вот это был порядок! А теперь что? Почитай за счастье, если какой-то лапотник еще соблаговолит свернуть свою навозную телегу к канаве и снять шапку. Псы, а не люди! Да, что бишь я хотел сказать о псах?.. Видите ли, господин фон Холгрен, какое дело. У моей мызы ручеек течет. Велел я его запрудить, пруд вырыть и обсадить ивами, так у меня там теперь красивый пруд — понимаете, пруд с чистой проточной водой, даже рыбку можно ловить. Как искупаешься да Герда спину хорошенько потрет, так ко сну и клонит, часа три после обеда и соснуть можно. И вот перед Яновым днем пошел я как-то к пруду, и Герда со мной с простыней и полотенцами. Гляжу: что-то плавает, вроде бы мешок или охапка сена. И что вы думаете, господин фон Холгрен, там оказалось? Собака, дохлая, вонючая собака, с нее уже вся шкура облезла, Покупайся-ка в такой поганой яме! А Холодкевич только смеется — скалит зубы, как жеребец. «Ну зачем вы, господин пастор, роете эти пруды, еще ребята могут упасть да утонуть».
Холгрен провел ладонью по глазам, потом по носу и бороде, чтобы скрыть усмешку.
— Да-да, — вот они какие дела.
— Да, такие вот дела. При бароне Шульце приказали бы мы их всех отодрать, всю волость. Назавтра же этот душегуб был бы у нас в руках, еще и по сей день ходить бы не мог… Нету, нету больше ни порядка, ни справедливости! Для школы кирпич возят — ах, да ведь из ваших же печей. Моему причетнику придется их грамоте учить, читать и писать. Уже и теперь от жалоб спасения нет, а что будет, когда всякий сопливый сорванец — мужичье отродье — писать научится? Псалмы печатают{30} — да разве мы в церкви не можем сами эти слова твердить, лишь бы они их повторяли? Суперинтендант Фишер{31} и пастор Глюк из Мариенбурга библию перевели, — дескать, чтецы ее найдутся. Подумали бы лучше, как из мужичья старую ересь изгнать и идолопоклонство, как искоренить эти срамные песни, столь непереносимые для слуха. Ведь еще нынче, в Янов день… эх, что там говорить! Так вот, я и говорю, неплохо, если бы помещики поднялись. За благословением господним дело не стало бы.