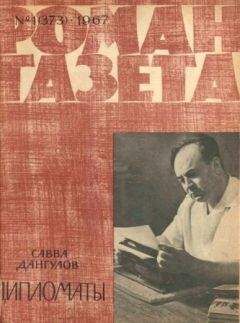— К черту Вильгельма с Николаем и Бирилева в придачу! — произнес он мрачным шепотом. — Что будет с Россией, господа? — С невеселой решимостью он оглядел всех, кто сидел за столом. — Ленин полагает, надо идти с немцами на мировую? Позорнее этого мира Россия не знала.
Он стоял, охваченный беспокойством. Ему казалось, что сию минуту должен обвалиться потолок над ним, однако он продолжал стоять.
— Что вы молчите, господа? — спросил он, и молчание было ему ответом.
— А ты не думаешь, — осторожно поднял хмурые глаза Николай, он был заинтересованно внимателен, — что начинается баталия, самая крупная за все эти годы: и Брест-Литовск, и договор с немцами — это вопрос… стратегии?
— Да, но у каждой стратегии есть цель, — произнес Илья и обратил неприязненно-скептический взгляд на брата. — Какая цель здесь?.. Елена, дай карту, что лежит на столе в библиотеке! — крикнул он племяннице. Карту он положил на стол так, чтобы была видна всем. — Что значит отдать немцам эти земли? Это значит лишить Россию всех самых технически развитых областей, а Германию вооружить всем, чего у нее нет: нефтью, углем, металлом… Отдать немцам эти земли — значит заколотить двери и окна русского государства на Запад, то есть все то, что со времени Петра… Я не Кутузов, но я хочу понимать идею, которая эту стратегию движет.
В тишине, наступившей тотчас, голос младшего Репнина прозвучал необычно.
— Ты сказал: Кутузов… А ведь что такое Кутузов для всех, кто помнит историю? Даже для нас, людей невоенных? Я так мыслю: Кутузов есть прежде всего… разумная жертва.
— Я этого не понимаю, — бросил Илья. — Может, другие поймут!
Николай придвинулся к столу и взял карту.
— А я объясню, — произнес он и задумался. — Да, разумная жертва, когда армия, а возможно, и страна жертвуют одним, может быть, очень большим, чтобы спасти еще бóльшее, если хочешь, главное. К чему говорить о дверях и окнах, когда речь о самом доме: стоять ему на этой земле или рухнуть. У Кутузова была дилемма: положить армию или отдать Москву. Он отдал Москву и сберег армию. Выждал момент и погнал Наполеона.
— Сберечь армию? — В едва заметных щелках враждебно блестели глаза Ильи.
— По-моему, больше.
— Россию?
Сравнение Ленина с Кутузовым (с Кутузовым сравнивался именно Ленин!) выглядело наивным, думал Петр, но в этом сравнении был смысл, здравый смысл. По крайней мере. Репнин мог выразить свое согласие с помощью такого сравнения, и это прозвучало достаточно веско. Он не побоялся сказать об это брату без обиняков, прямо, и это располагало к младшему Репнину.
Чичерин, молча слушавший братьев, вдруг забеспокоился.
— Я так думаю. — Его голос приобрел и большую силу, и большую свободу. — Надо заколотить окна, заколотить их и законопатить. Придет время — все окна настежь!
Поздно вечером Николай Алексеевич и Елена проводили гостей к автомобилю. Снег все еще шел, но ветер стих. Репнин с Чичериным отстали. «О чем они могут говорить? — думал Петр. — Весьма возможно, что Чичерин сказал о главном. Он просил Репнина быть с ним в хлопотах и надеждах».
А рядом шла Елена, и крылья ее бровей были необычно спокойны. Петру хотелось думать, что она Могла бы быть хорошим товарищем. И еще думал Петр: смогли бы они стать друзьями. Кира и Елена? Кажется, он нашел слово, которое искал: друзьями! Вот приедет Кира в Россию, и первое, что он сделает, приведет ее к Елене. Как она там и какой час сейчас в Глазго? Девять? Еще не спит. Лежит на софе, положив перед собой томик Лермонтова? Или захлопнула Лермонтова и смотрит на солнце, что удерживается на макушке сосны! Откуда пришло это солнце и где оно было два часа назад: в далекой России? Что делает сейчас Петр и думает ли о ней?
Петр смотрел на Елену. Она шла поодаль, подняв лицо, и снежинки запорошили брови, набились в волосы. Быть может, для всего ее облика характерны эти брови, неубранные, почти сомкнувшиеся у переносья? Эти брови больше, чем что-либо иное, передавали характер Елены, страсть, пренебрежение к мирским радостям.
— Что это вы ополчились на дядю Илью? — Она оглянулась, указывая на свой дом. — Я люблю его, Патрокл, как добрый конь Казбича, «он не изменит, он не обманет…»
— Почему Патрокл? — спросил Петр.
— По этой же причине, — ответила она. — Не изменит…
Петр молча шел рядом. «Он не изменит, он не обманет. Не изменит…» — хотелось повторять за Еленой. «Не изменит…» Наверно, старший Репнин ближе Елене, ее девичьим бедам и радостям, ее тайнам. Отец слишком ушел в себя, чтобы быть с дочерью. В душу отца, как в железную дверь, не достучишься. Илья мягче, но добрее ли?
Петр спохватился: молчание делалось неловким.
— Хотя это звучит необычно, мне нравится сравнение Ленина с Кутузовым, — сказал Белодед Репнину, который поравнялся сейчас с Петром и Еленой. Репнин не ответил, а Петр подумал: он понимает, ничто так не способно парировать дерзкую фразу, как молчание. — Чтобы дипломат действовал во всю силу средств, отпущенных ему богом, — продолжал Петр: ему хотелось взломать молчание Репнина, — он должен верить: любой успех в его власти.
— А по мне, Лениным может быть только Ленин, а Кутузовым — Кутузов, — сказал Репнин.
Не вызывал ли Репнин Петра на спор?
— Я хочу сказать, что дипломат новой России только тогда сможет сделать все, что в его силах если он свободен в действиях своих.
Репнин держал воротник у рта — он боялся простудить горло.
— А я как раз с этим и не согласен, — сказал он и, подняв голову, посмотрел на Чичерина, который садился в автомобиль. — Впрочем, у нас еще будет время развить эту тему, — добавил Репнин с тем веселым радушием и одновременно твердостью, с какими были произнесены им и остальные слова, адресованные Петру.
Когда автомобиль минул Каменноостровский, Чичерин спросил Петра:
— Как вам братья? Я бы хотел, чтобы в завтрашнем разговоре на Дворцовой участвовал младший Репнин.
— Но готов к этому Репнин? — спросил Петр.
Чичерин не ответил. Он с тревожной сосредоточенностью взглянул на Петра и привалился к спинке сиденья. Петр вспомнил, что последние сутки Чичерин едва ли сомкнул глаза. Минувшая ночь и утро прошли в переговорах с Брестом по прямому проводу. В Наркоминделе на Дворцовой аппарата не было, и Чичерин говорил с Брестом из дворца, напротив. Уже в предутренний час Петр видел, как он возвращался через площадь. Дул ветер, жестокий, почти бесснежный Чичерин шел, приподняв воротник, погрузив руки в карманы. Поодаль поспешал молодой солдат с винтовкой. Винтовка была у солдата на ремне за плечом. Солдат шел вприпрыжку и, обогнав Чичерина, останавливался, дожидаясь спутника. Чичерин шел медленно. Когда ветер усиливался, он поворачивался спиной, чуть сутулой. Ему нелегко было совладать с ветром — он очень устал в эту ночь.
Видно, сон, который шел за Георгием Васильевичем след в след все эти сутки, настиг его сейчас. Он спал. Старая каракулевая шапка была больше обычного надвинута на уши, шарф выбился из-под пальто, обнажив горло. Петр поймал себя на мысли, что ему очень хочется дотянуться до шарфа и закрыть им горло Чичерина. Но Петр сдержал себя: до Дворцовой было еще далеко. Георгий Васильевич мог еще поспать.
Как условились. Репнин собрался к Чичерину в Смольный, где у Георгия Васильевича также была рабочая комната. Но в последнюю минуту позвонили и сказали, что Чичерин ждет Репнина на Дворцовой. Наверно, другой счел бы это за плохую примету (ехать надо на Дворцовую!), но Николай Алексеевич был спокоен. Однако, когда, входя в министерский подъезд, он увидел старого швейцара, того самого, что… ой, сколько лет сряду открывал перед ним эту дверь, он не испытал прилива душевных сил. И все время, пока поднимался по парадной лестнице, было тяжело в ногах и хотелось опереться о перила.
В коридоре Николай Алексеевич едва не столкнулся с англичанами — военным и штатским. Военного Репнин видел тот раз в английском доме у Троицкого (коричневые краги и волосы, разделенные на темени безупречным пробором, очень приметны), штатского… да не Локкарт ли это? В самом деле, не Брюс ли Локкарт? Как установил Репнин только что, он был много моложе военного, несмотря на позднюю зимнюю пору, одет в светло-серый костюм.
— Кто этот странный господин в сером костюме? — спросил Репнин Чичерина.
— Успел встретить? Локкарт. Брюс Локкарт. Ты полагал, что он должен быть обстоятельнее? — спросил Чичерин. — В прошлом почти генеральный консул, ныне в известной мере посол.
— Да, пожалуй, — подхватил Репнин.
Чичерин сдавил ладонями виски — жест раздумья, жест усталости.
— Я допускаю, что в Москве он был обстоятельнее, хотя положение генерального консула много скромнее того, которое он занимает сейчас, но нынче он не имеет права быть таким.