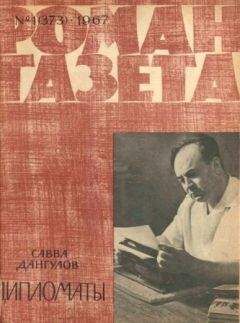— Принять облик посла — значит сковать себя, а от него нынче требуется подвижность, — заметил Репнин весело.
— Да, у него сегодня иное амплуа, ему надо бывать в домах, при этом у людей разных, где послы обычно не бывают, ходить по городу, на что послы отваживаются нечасто, ездить по стране неофициально, что и нынешней обстановке для посла исключено, хочешь не хочешь, а наденешь светло-серый костюм в феврале.
— Но его позиция так же отлична от позиции посла, как костюм? — спросил Репнин.
— Да, пожалуй, отлична, — согласился Чичерин. — Нынешний визит преследовал и специальную цель: он просится на прием к Ленину, срочно.
Зазвонил телефон. Чичерин снял трубку.
— Да, да… — сказал он со строгой внимательностью. С кем он говорил сейчас? Нет, темп речи был тот же и непосредственность интонации осталась прежней, чисто чичеринской, но было в речи и нечто новое — желание поточнее выразить мысль, не говорил — диктовал. — Нет, он не согласен с Бьюкененом, — сказал Чичерин. — Тот считал, как вы знаете, что англичанам не стоит жертвовать в России престижем и заставлять Россию воевать, тем более что эта акция безнадежна. Этот, наоборот, видит цель своей миссии в том, чтобы вовлечь…
Сейчас говорил собеседник Георгия Васильевича, видно, говорил горячо, Чичерин сжимал губы.
— Да, просится на прием к Владимиру Ильичу, — вставил Чичерин. — Он спешит, нам спешить нечего.
Чичерин положил трубку. Он сидел некоторое время молча, только мрачно шевелились брови-пики да упрямо оттопыривались губы.
— Брест не входит в расчеты англичан, — наконец проговорил Чичерин, все еще не назвав имени собеседника.
— Может, поэтому в сером костюме Локкарта, как я заметил, есть нитка цвета хаки, — вставил Репнин, смеясь.
— Очевидно, на тот случай, если придется выезжать на фронт, — добавил Чичерин без улыбки. — Дзержинского интересует позиция Локкарта.
— Дзержинского?
— Да, в той мере, в какой миссия Локкарта перестает быть дипломатической.
У Чичерина болела голова. Он не мог понять, чем вызвана эта боль: опять простудил горло — ночью его вызвали в Смольный, автомобиля не было, и он пришел с Дворцовой пешком — шел берегом Невы, против ветра. Просматривая сегодняшние газеты, Владимир Ильич обратил внимание на заметку: «Дипломаты протестуют против опубликования тайных договоров». Среди тех, кто подписал заявление, имени Репнина не было, но в конце заметки был приведен перечень имен тех, кто присоединился к заявлению устно, — там значилась фамилия Репнина. «Прелюбопытно узнать, — спросил Владимир Ильич секретаря, — это тот Репнин, что был у меня?» Он стал вспоминать разговор Репнина о тайных договорах и вспомнил фразу Николая Алексеевича: «В дипломатии нет серьезного дела без тайны. Там тайна — душа каждого дела».
Это было вчера, а сегодня в час дня Владимир Ильич должен быть с Чичериным на Дворцовой — Ленин просил показать английские папки. Несомненно. Ленин удержал в памяти газетную заметку с намерением спросить о ней Чичерина, быть может, это произойдет по дороге из Смольного. Ну, а если бог помилует по дороге на Дворцовую, то наверняка не пощадит в самом министерстве — никто лучше Репнина не знает английских папок, и Чичерин просил его быть. От такой перспективы как не заболеть голове? Не пощадит Ленин Репнина, да и Чичерину воздастся.
Первая мысль: убедить Владимира Ильича не ехать на Дворцовую и отказаться от услуг Репнина, однако эта мысль отметена. Как можно? Нет, Чичерин не пойдет на это. В какой мере такое решение отвечает интересам новой России и какое объяснение Чичерин даст Ленину?
Пусть встретятся! Да, как ни неприятна такая перспектива, она кажется сейчас Чичерину единственно разумной. По крайней мере. Репнин допускает эту встречу, если согласился на нее, да к тому же после напечатания письма! А Ленин? Разумеется, Чичерин предупредит его, и Владимир Ильич волен решить, говорить ему с Репниным или нет. Впрочем, к чему загадывать, когда жизнь может все перекроить.
Автомобиль идет на Дворцовую. Чичерин сидит рядом. Ленин искоса смотрит на него. Воротник у Чичерина поднят, виден конец ярко-лилового шарфа — бережет горло. Однако нелегко Георгию Васильевичу на петроградском ветру, хоть он и храбрится! Вчера Ленин увидел над столом Чичерина военную карту российского запада, беспощадно утыканную флажками, а на столе полевой телефон. Вряд ли у Чичерина была нужда в большом сером ящике, в котором звонок гремел так, как не гремел в этом доме даже при смолянках, но Чичерин не чувствовал неудобства. Наверно, в полевом телефоне ему виделась могучая гаубица, ведущая огонь по врагу. Будь у революционной русской армии форма, Георгий Васильевич облачился бы в нее, открыто предпочитая гимнастерку пиджаку.
Автомобиль идет на Дворцовую. Свирепо развоевался над Питером февраль, ветрено. На окнах автомобиля наросла крепкая наледь. Ленин нагибается, чтобы разглядеть город.
— А Невский мог быть в этот час и более людным, — говорит он, не отрывая глаз от стекла. — Погода тому причиной или нечто иное? — На скрещении Невского и Садовой он долго смотрит вслед женщине в валенках, которая, переходя улицу, не слышала автомобильного сигнала. — Вы заметили, эта женщина не ускорила шага даже после того, как увидела автомобиль, ей было все равно. — Он вновь умолк. — Сказать, что нужда ожесточает человека, еще не все сказать. — Он все еще думал об этой женщине. А когда Невский кончился и справа засинели просторные снега Дворцовой площади, глаза вдруг потеплели: быть может, вспомнил октябрь семнадцатого и бой, который новый мир дал старому вот здесь, на камнях площади, еще не укрытых снегом. — Погодите, — произнес он весело. — Что там наговорил ваш Репнин о тайных договорах? — Он так и сказал: «Ваш Репнин».
Чичерин откашлялся — в минуту волнения у него начинало першить в горле. «Все имеет свое начало и конец», — подумал он.
— А разве его мнение могло быть иным? — спросил Георгий Васильевич.
— А почему бы его мнению и не быть иным? — ответил вопросом на вопрос Ленин.
— Очевидно, такой поступок не заслуживает оправдания, — заметил Чичерин. — Однако справедливости ради необходимо сказать, что все это он говорил и прежде, — произнес он медленно. Чичерин понимал, что последние слова определяли все.
— А почему он держится этой точки зрения? — спросил Ленин. — Потому ли, что хочет взять под защиту прежнюю политику, или потому, что убежден — дипломатия и тайна нерасторжимы?
Чичерин улыбнулся не без облегчения: казалось, Ленин сам подвел разговор к логическому концу.
— Очевидно, последнее, Владимир Ильич.
Они вышли из автомобиля и медленно направились к парадному подъезду министерства.
— Не думает ли он, что дипломатия новой России должна быть тайной? — Ленин остановился, прямо и остро взглянул на Чичерина.
— Быть может, он думает и так, — сказал Георгий Васильевич. — Но вряд ли его можно осуждать за это: вся жизнь Репнина прошла в этом доме, — глаза Чичерина уперлись в фасад министерства.
— Вы могли бы быть и не столь снисходительны, — улыбнулся Ленин. — Кстати, не объясняется ли ваша мягкость тем, что я сейчас буду иметь честь говорить с Репниным?
— Да, Владимир Ильич, я просил его быть.
Ленин ускорил шаг.
— И при этом… не думаете ли вы, что я буду там дипломатом в большей мере, чем хочу им быть? — Ленин указал взглядом на дверь, в которую они входили.
— Вы хотите сказать, что в разговоре с Репниным намерены называть вещи их точными именами?
— Да, несомненно, хотя, быть может, такая манера и не в традициях этого дома.
«Нет, наивно предполагать, что Ленин стыдливо замолчит заявление Репнина или парирует легкой иронией, — думал меж тем Чичерин. — В его правилах прямо взглянуть Репнину в глаза, прямо спросить: „Погодите, вы повели себя некоим образом странно. Мы ждали от вас приязни, а вы атаковали нас. Я не знаток дипломатического правопорядка, но на языке простых смертных это зовется вероломством“».
Чичерин смотрел на Ленина, и ему казалось, что губы его жестко сомкнуты. У него действительно сейчас лицо человека, способного сказать: «…на языке простых смертных это зовется вероломством». Нет, решительно все имеет свое начало и конец. Нелегко придется нынче Репнину!
А Ленин уже поднимался парадной лестницей, и глаза были обращены на хрустальный шар люстры.
— Вы начинали дипломатическую службу в этом доме? — спросил Ленин, не сводя озорно-иронических глаз с люстры.
— Нет, в московском крыле этого дома.
— Но здесь бывать приходилось?
— Да, разумеется.
— При Ламсдорфе или Извольском?
— При Ламсдорфе.
Чичерин думал: наверно, он проверяет сейчас память, способность рисовать в сознании нечто такое, что недосягаемо для глаз. Как часто за годы жизни на чужбине возникал в сознании холодный блеск этого дворца. «Французский посол Палеолог был принят сегодня на Дворцовой, шесть русским министром иностранных дел Сергеем Сазоновым». «Наш корреспондент видел, как министр Сазонов покинул британское посольство у Троицкого моста и направился пешком к себе — он вошел в министерство не с Дворцовой, а с Мойки…». «Через полчаса после того, как автомобиль германского посла Пурталеса отошел от подъезда министерства на Дворцовой…» Да, всему, что требовало широкой огласки в свете и прессе, были открыты парадные двери на Дворцовой, все, что отодвигалось на второй план и было не в такой мере всегласно, имело доступ с Мойки. Впрочем, для общественного мнения не только России Дворцовая и Мойка были почти синонимами.