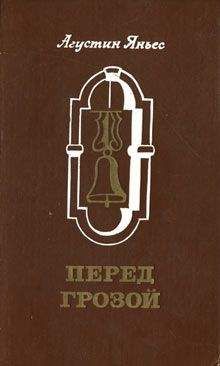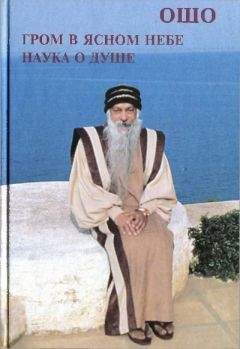Габриэля словно резануло по сердцу. В голове стучало: там лошадь — под дамским седлом. Он поставил кувшины на землю и принялся наблюдать, бледный как воск. Глаза уверяли его — да. Сердце кричало — нет.
— Нет! Нет!
— Да! Да!
— Нет! Нет!
Вышла из дома донья Кармен, одетая, как всегда, с непокрытой головой. И, в дорожном костюме с белой пелериной, в широкополой шляпе, Габриэль увидел выходившую сеньору Викторию.
Сраженное сердце кричало, что это — всего лишь прогулка по окрестностям и она вернется сегодня же или на следующий день. По глаза опровергали желанную иллюзию. Габриэль быстро поднял кувшины и, добежав до церкви, взобрался на колокольню и начал наблюдать за улицей, по которой, направляясь к дороге на Гуадалахару, двинулся караван: Виктория — впереди, за ней — двое слуг.
В висках Габриэля отдавался перестук копыт о булыжник улицы. Его словно ударило неизвестно откуда налетевшей волной. Никогда не сможет он вспомнить, как рванулся с места, безумно вцепился обеими руками за веревки колоколов, чтобы услышать голос, в котором так нуждался, чтобы излить море горечи, охватившей его. Он даже не понимал, что колокола уже звонят и звон этот — погребальный звон. Языками колоколов — языками огня и вечности — он отсылал в пространство слова, срывавшиеся с его губ, прораставшие в его жилах; он находил облегчение, выплескивая в плаче колоколов новую и древнюю песнь, сверхчеловеческую, в которой слились голоса всех миров и всех времен — прошлых, настоящих и будущих, вся тоска и все надежды тех, кто страдал, страдает и будет страдать. Если бы все силы земли попытались остановить эту песнь, нет, не сдержали бы они этого шквала, движимого неодолимыми силами любви и смерти.
Габриэль заметил, как в переулке, спускавшемся к реке, путешественница, — это словно копьем пронзило ему грудь, — выпрямила стан, подняла голову, придержала свою лошадь и обернулась к колокольне. Малый колокол разразился тяжелым, отрывистым, непривычным звоном, за которым последовал перезвон колоколов-сопрано, которые на сей раз превысили модуляции, призывающие субботними вечерами к «Salve»[94]; в их звуки властно вмешались хриплые удары большого колокола; его устрашающее гудение, воцарившись, заглушило голоса всех остальных колоколов, — в этот миг дама подняла руку и, как бы увлекаемая неодолимой силой, повернулась спиной, продолжая свой путь, и, наконец, затерялась в излучине реки. Набатом били колокола,' но когда на противоположном берегу она снова появилась, бронза издала короткий ликующий аккорд, резко перешедший в мрачный, заупокойный гул, как если бы вдруг рухнули и колокольня и все селение и уже никто не смог предотвратить катастрофу.
Вдали, все более и более отставая от слуг, все медленней и медленней, словно сопротивляясь дующему в лицо сильнейшему ветру, путешественница поднималась по склону у кожевенных заводов; голова ее была опущена на грудь, и по мере того как она удалялась, очертания ее расплывались. Слуги уже скрылись из виду, а белый конь сеньоры приближался к вершине холма, за которым дорога уже была не видна. Колокола звучали отчаянием, но в их тоске можно было расслышать мольбу — последнюю мольбу последней надежды, призыв, заклинавший о нежности, — и дама, бросив уздечку, остановившись, слушала, затем, подняв правую руку, стала махать зеленым шарфом. В беспорядочный хаос плача и радостного смеха, номинальной молитвы и гимна, в оглушающий трезвон вылилась нежность колоколов. Пять, десять минут, которые показались веками. А когда путешественница исчезла из виду, то невероятную, все возрастающую силу обрели мрачные похоронные удары. Это был день Страшного суда. Словно уже захлебывались, раскалывались колокола. В этой сверхчеловеческой, неслыханной музыке они обречены были погибнуть.
Внезапно колокола смолкли. Отведя взгляд от опустевшего горизонта, Габриэль только сейчас заметил на улицах, в дверях, в окнах, на плоских крышах домов перепуганных людей. Он услыхал сильный стук в дверь, ведущую к винтовой лестнице. Он вернулся к действительности, и действительность тотчас же развернула перед ним богатейшую коллекцию персонажей, столь различных в выражении своих чувств; он увидел улыбающееся лицо Лукаса Масиаса, стиснутые руки и горестные морщинки на лбу Марты, нависшие грозовой тучей брови сеньора приходского священника, танцующие челюсти падре Исласа, услышал нервное посвистывание Луиса Гонсаги; перед ним возникли: качающий головой дон Тпмотео Лимон, энергично жестикулирующий падре Рейес, широко раскрытые глаза мальчиков-служек, скатывающиеся по щекам слезы председательницы конгрегации Дщерей Марии; замершие, как цапли, северяне на перекрестках, захлебывающаяся словами донья Кармен Эспарса… Все лица, все особенности поведения его односельчан представились ему с удивительнейшей ясностью; Габриэль оставался на месте — неподвижный, оцепеневший. Удары в дверь следовали беспрестанно, и казалось, вот-вот ее сорвут с петель. Он услышал голоса Паскуаля, сеньора приходского священника и нотариуса, звавших его. Точно лунатик, Габриэль подошел к двери и открыл ее.
Сеньор приходский священник сдержал за плечо рванувшегося было вперед Паскуаля, испепеляя взором виновника беспрецедентного скандала.
— Почему ты сделал это? — Гнева не слышалось в его голосе, звучало только сочувствие. Габриэль продолжал молчать, глаза его были закрыты.
— Спускайся и запрись в своей комнате, я приду, и мы поговорим.
Па галерее плакали Марта и Мария. Марта не отнимала ладоней от лица, а Мария, вся в слезах, бросила на Габриэля пронизывающий взгляд, поразивший его как громом: в подобные роковые минуты подчас открывается мир чужой души; вначале Габриэль не мог в это поверить, но тут же постиг истину во всей ее простоте. Любовь Марин. Он подумал, что сходит с ума.
За безумного его приняли сеньор приходский священник да и все обитатели селения. И это пробудило в Марии чувство, которое выдал ее взгляд.
Безуспешно пытался дон Дионисио освободиться от того горестного замешательства, в которое вверг его сон, снившийся ему четыре ночи подряд; сон до сих пор преследовал его, не оставлял ни на мгновение. Дон Дионисио уже не старался разгадать тайну того, что он увидел во сне и что посчитал кознями сатаны, однако чем дольше, тем больше ему не давал покоя мутный водоворот загадок: почему Марта, Мария и Микаэла объединились в одном и том же образе? Чем вызван этот мятеж Габриэля, всегда рассеянного и равнодушного к окружающей жизни? И самое странное… почему во сне Габриэль отождествился с Дамианом, сыном дона Тимотео? А эта несчастная, осужденная на вечные муки женщина?
«Et ne nos inducas in tentationem, sed libéra nos a malo»[95].
Если все эти кошмары лишали его сна на протяжении четырех ночей, то чего же ждать от сегодняшней ночи, когда он ложится спать весь растревоженный выходкой Габриэля и тем потрясением, которое вызвал в селении этот безумный колокольный трезвон? Есть ли какая-нибудь связь между мучившими его кошмарами и необъяснимым происшествием нынешнего утра? «Libéra nos a malo».
Неподвижно лежит он в постели, вновь и вновь восстанавливая в памяти события дня и особенно беседу с Габриэлем. Каково было ему обнаружить безумца в собственном доме? То, что Габриэль нарушил запрет и забрался на колокольню, разгневало его, но гнев дона Дионисио смягчился перед неслыханным мастерством звонаря: невозможно поверить, что на колоколах играл Габриэль, — не могли человеческие руки извлечь такое из колоколов. Духи! Ангелы! Апокалипсические видения! Когда он спешил к церкви из Дома покаяния он не мог не заметить тревоги, охватившей прихожан. Кто-то обронил, что, мол, неспроста вдруг уехала вдова, гостившая у Пересов, но он ничем не выказал, что эта новость его заинтересовала или что он обратил на нее внимание, а вот то, что все повторяли наперебой: «Габриэль сошел с ума», — его не могло не встревожить: да, только безумный может играть так; и если он тронулся умом, то лишь потому, что у него отняли его колокола; дон Дионисио ужаснулся: этот сон, его кошмары, мятеж во сне, — не было ли все последующее лишь продолжением сна? Этот переполох и тревога на лицах прихожан? И этот немыслимый, неслыханный колокольный звон? Если Габриэль и вправду сошел с ума, то виновен в этом — думает дон Дионисио — он, запретивший ему звонить в колокола. И опять в ушах священника зазвучала величественная, прекрасная музыка; пристально глядевшие глаза ожидали увидеть, как с башни колокольни сорвутся черные крылатые кони или быки с огненными крыльями, снежные орлы, львы, архангелы. Благоговение перед мощью, тайной и красотой колокольного хора возобладало над всеми остальными чувствами приходского священника; если Габриэль — творец этого чуда, то дон Дионисио повергнется перед ним ниц и будет целовать его руки. Но этот порыв и увиденное им столпотворение, — люди подходили отовсюду, передавая друг другу толки о происшедшем, собирались группами на площади, толпились в дверях приходского дома, — снова вызвали в нем недовольство виновником скандала. Расчищая себе путь, он слышал вопросы, предположения, угрозы: «Это из Ночистлана пришли посмеяться над нами и захватили колокольню», «Землетрясение покончило с Гуадалахарой», «В Мехико началась заваруха», «Это спириты созывают на свое сборище», «Выгнать их отсюда, а там посмотрим»; некоторые прихожане уже вооружились камнями. Дону Дионисио удалось восстановить спокойствие обещанием разъяснить всем, что произошло. «Debitoribus nostris»[96].