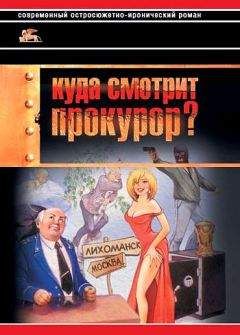Когда-то Валицкий лечился у частнопрактикующего врача-терапевта Осьминина — это было еще до революции. Постепенно они подружились. И тогда Осьминин сказал:
— Вот что, Федор, ищи-ка себе другого врача, а я тебе отныне не лекарь. Ты мне больше не веришь. Несть пророка в своем отечестве. К тому же тебе нужен пророк с палкой, чтобы ты его слушал и боялся. Я тебе говорю, что у тебя начальная стадия гипертонии, а ты посылаешь меня к черту. Словом, чай у тебя пить буду, если Мария Антоновна пригласит, а лечит тебя пусть кто-нибудь другой.
Так и договорились. Они виделись часто, но редко расставались, не повздорив. И причина этого в конечном итоге заключалась в том, что Осьминин слишком хорошо знал Валицкого и уже давно разглядел в характере его те черты, о которых даже и не догадывались другие. Этими чертами были легкая ранимость, которую Валицкий искусно прятал под маской равнодушия и даже высокомерия, и жажда деятельности, которую в силу сложившихся обстоятельств Валицкий также пытался скрывать.
Доктор Осьминин был вдовцом, он жил в маленькой квартире с внучкой Леночкой, дочерью своего погибшего на войне с финнами сына. Мать Леночки ушла от мужа через два года после рождения дочки и не давала о себе знать. Четырнадцатилетняя Лена вела немудреное хозяйство деда; два раза в неделю к ним являлась приходящая домработница. Сам Осьминин уже давно забросил частную практику, не возвращался к ней, в отличие от многих врачей, и в период нэпа и последние годы заведовал больницей на Васильевском острове.
…И вот теперь, в воскресенье 22 июня, около двух часов дня, Валицкий назвал номер Осьминина и, услышав знакомый дребезжащий голос, как нельзя более спокойно, не здороваясь и без всяких предисловий, спросил:
— Ну… что нового?
— Ты что, с ума сошел, Федор! — возмущенно воскликнул Осьминин. — Нашел время для нелепых шуток!
— Значит… — после короткой паузы и неожиданно упавшим голосом произнес Валицкий, — значит, это правда?
— У тебя что, уши ватой заткнуты? — продолжал возмущаться Осьминин. — В конце концов, есть пределы…
— Извини, — прервал его Валицкий, и голос его прозвучал как-то виновато, — я просто не мог поверить… Я позвоню тебе позже…
Он повесил трубку и тихо произнес вслух:
— Значит, все это правда. Война.
Он положил руку на грудь, потому что почувствовал, как часто и гулко бьется его сердце, и несколько минут сидел неподвижно.
Потом встал, снял потертую, сшитую из тяжелого шелковистого сукна пижамную куртку, сохранившуюся с давних времен, и подошел к высокому стоячему зеркалу.
У зеркала он сосредоточенно повязал своими тонкими, сухими пальцами галстук-«бабочку», с трудом справляясь с туго накрахмаленным воротником, надел жилетку, темно-синий пиджак и вышел из кабинета.
Мария Антоновна, услышав шаги мужа, бросилась к нему, он молча ее отстранил, направился к парадной двери, взял стоящую в углу толстую орехового дерева палку и вышел на улицу.
У него не было никакой цели, ему некуда было идти. Просто он хотел вырваться из внезапно охватившего его состояния оцепенения.
Высокий, негнущийся, старомодный, Валицкий шел по улице, не глядя по сторонам, слегка пристукивая по тротуару палкой и высоко подняв свою седую голову.
Откуда-то издалека до него донеслись звуки радио. Не убыстряя шаг — Валицкий всегда и при любых обстоятельствах ходил в одном и том же темпе, — он пошел туда, откуда доносились эти звуки.
Он вышел на Невский, повернул направо и зашагал по проспекту. Уже очень скоро он сообразил, что голос репродуктора раздается из того самого переулка, где помещался Дом радио.
В переулке стояла толпа и безмолвно слушала громкий голос, доносящийся из похожего на огромную граммофонную трубу репродуктора, выставленного в раскрытом окне третьего этажа.
Валицкий стал в стороне, не смешиваясь с толпой. Он напряженно вслушивался в смысл доносящихся из громкоговорителя слов, стараясь схватить их сущность, уловить какие-то фразы, интонации, которые могли бы оправдать еще чуть теплящуюся в его душе надежду на то, что все это — недоразумение, что люди неправильно истолковали какое-то неудачно составленное сообщение. Но безотчетно лелеемая им надежда была уже через несколько коротких минут погребена под тяжестью неумолимых слов, падающих оттуда, сверху, на безмолвную, неподвижно стоящую, здесь, внизу, толпу.
Да, это была война. Не та, воображаемая, что уже не первый год, как призрак, как мрачная тень, давила на сознание людей, а реальная, ставшая сегодняшним днем война: диктор говорил о внезапном нападении немецких войск с юга, запада и севера — повсюду, от Балтийского до Черного моря…
Потом он умолк, но толпа все еще не расходилась, и Валицкий тоже стоял, не двигаясь, ошеломленный, подавленный.
Диктор начал говорить снова, и Валицкий не сразу понял, что он опять произносит те же самые слова, повторяя сообщение, а когда сообразил, то пошел прочь, с трудом передвигая не гнущиеся в коленях ноги.
Он снова вышел на Невский и механически повернул в сторону, противоположную своему дому, к Аничкову мосту.
Пройдя немного вперед, Федор Васильевич увидел кучку людей, толпящихся у стены Госбанка, подошел, остановился и, пользуясь своим высоким ростом, глядя поверх голов, увидел мокрое, видимо только что наклеенное объявление.
Он прочел набранные красным шрифтом строки — это были все те же фразы, которые только что раздавались по радио: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!»
Валицкому стало душно, он повертел головой, стараясь ослабить впивающийся в шею туго накрахмаленный воротничок, и в соседней зеркальной витрине увидел свое отражение. И пожалуй, первый раз в жизни ему показалось, что он выглядит как-то несовременно, чуждо всему окружающему. Широкие концы его тщательно вывязанной «бабочки» торчали подчеркнуто вызывающе, накрахмаленная сорочка топорщилась из-под жилетного выреза, седая, хорошо промытая шевелюра возвышалась над головой, точно нимб.
Валицкий повернулся и пошел обратно, к своему дому.
За обедом Мария Антоновна снова начала говорить об Анатолии, но Федор Васильевич и на этот раз двумя-тремя короткими фразами заставил ее замолчать.
…И тем не менее Валицкий не мог, не был в состоянии не думать сейчас о сыне. Ему вдруг пришла в голову мысль, что их отношения с тех пор, как Анатолий стал сознательно мыслить, и до сегодняшнего момента развивались не совсем естественно.
Анатолий жил своей, не всегда понятной отцу жизнью. Иногда ему хотелось проникнуть в эту жизнь. Случалось, что у сына собирались товарищи — девушки и юноши, но тогда Валицкий лишь плотнее закрывал двери кабинета, чтобы к нему не доносился громкий смех и раздражающие его звуки патефона.
Впрочем, однажды его охватил приступ любопытства. Он вспомнил свою молодость, студенческие сборища, пунш, «Гаудеамус», девушек-курсисток и все такое прочее, ныне безвозвратно канувшее в прошлое, и Федору Васильевичу захотелось пойти и посмотреть, как веселится нынешняя молодежь.
В тот вечер у Анатолия собрались студенты, его однокурсники. Когда Валицкий появился в комнате сына, там наступило внезапное молчание. Наверно, он, вылощенный, накрахмаленный, неприступный, и впрямь выглядел неуместно среди вихрастых ребят в майках и ковбойках. Они так и застыли на своих местах — где кто был, только патефон, который никто не догадался остановить, продолжал наигрывать «Риориту».
Дело, по-видимому, заключалось не только в том, что Валицкий смущал ребят своим внешним видом. Студенты-строители, они, разумеется, знали о репутации, которой пользовался старый архитектор, и, так сказать, априори были настроены по отношению к нему несколько драчливо.
Может быть, Валицкий предполагал это или интуитивно почувствовал, но так или иначе стал «задираться» первым, иронически расспрашивая, «чему же теперь учат».
Но в то время, когда студенты ершисто отвечали на его вопросы, внутренне уверенные в «непрошибаемости» старика, у старика было очень горько на душе. Он еще и еще раз почувствовал, что никому не нужен, что-то пробормотал напоследок и ушел… И вот теперь он вдруг подумал, что если бы ему и впрямь предстояло расстаться с сыном, то, наверное, ни он сам, ни Анатолий не сумели бы найти нужных и важных слов. Однако мысль об этом лишь на мгновение появилась в сознании Валицкого, ему легко было прогнать ее, потому что все только что случившееся казалось ему совершенно нереальным.
Все мысли, все ощущения Валицкого еще были связаны со вчерашним днем. В его жизни еще не произошло того особого, личного события, которое заставляет человека не только поверить, но и почувствовать, что отныне он вступил в совершенно новую стадию существования и что прошедшая ночь не только, как обычно, отделила вчерашний день от сегодняшнего, но огненной чертой пересекла все, чем живет человек: чувства, надежды, устремления и все, что его окружает.