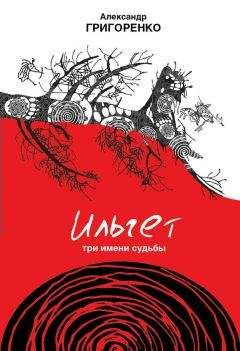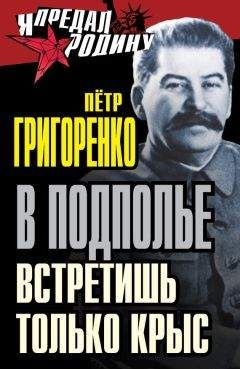И я сказал:
— Я Ильгет, сын Белегина.
— Вижу, — по-юрацки сказал человек. — Белегина уж давно нет — утонул.
Помолчав немного, он сказал со стариковской строгостью:
— Ты остяк и должен говорить по-остяцки. Где твой брат Бальна — у тебя с ним одно лицо?
— Умер.
— Сам?
— Нет.
— Отомстил?
— Да.
— А мать Ильгета и Бальны жива ли?
— Взяли замуж за юрака. Там и умерла.
— А-а… протянул человек. — Мы же ведь, родичи, прокляли ее, за то, что плохая мать, — зарыла вас в мох и убежала.
— Она хотела…
— Знаю. Зря мы так сделали. Да, видно, судьба ее такая. Я — Тыней, твой родич с соседней реки. А ты, Ильгет, вот и пришел, один из всех пришел… Что ж, родился — живи до старости, кет!
Мы обнялись.
— Чьим очагом ты жил все это время, Ильгет?
— Добрые люди кормили.
— Да… добрых людей много на свете.
Тыней спросил о людях, пришедших со мной. Я показал на Нару.
— Ай, красивая у тебя жена, — сказал он, — повезло тебе.
Ябто я назвал дядей Нары, Куклу Человека — ее дедом, Йеху — своим названым братом. Все время беседы улыбка не сходила с губ великана.
— Что он улыбается? — спросил у меня Тыней. — Весь ум из носа вытек?
— Как ослеп — радуется, что больше воевать не надо, — ответил я.
— Скажи, дед, а муравейников в ваших угодьях много? — спросил Йеха, и Тыней едва не упал — ведь Йеха говорил по-остяцки.
Придя в себя, он сказал:
— Точно весь ум вытек. Зачем тебе, слепому, муравейники?
Йеха хохотал.
И еще рассказал мне Тыней, что река моя — не самая изобильная, но никого еще не уморила голодом, потому что кайгусы здесь добрые, и надо подружиться со своим кайгусом, который является то соболем, то пришлым человеком, а чаще всего — большим окунем. К тому же рядом Йонесси, и за жирную рыбу здесь обычно не дерутся — на всех хватает. И мать-огонь не зла на здешних людей, только жену свою надо научить почтительному обращению с ней и вежливым словам. Я спросил, как называется моя река, — Тыней посмотрел на меня с удивлением.
— Так и называется твоя река — Ильгета. Ведь, кроме тебя, здесь иного никого нет. Правду сказать, и мы здесь хозяйствуем, не быть же реке безлюдной. Хотя давно, так, что и прадеды не помнят, здесь жили бирюсы-охотники, потому и реку иногда называют Бирюсой, но теперь она твоя. Великое дело, когда скитавшийся человек в свое гнездо возвращается.
На другой день с Тынеевой реки пришли люди — его жена и трое парней, близких родичей. В нартах, которые едва тащили белые широкогрудые псы, они привезли все, чтобы нам пережить эту зиму, — покрышки для чумов, стрелы, два котла, снасть для подледного лова, шкуры для постелей и троих щенков, только отошедших от материнского молока — ведь оленей у остяков нет. В один день появилось новое стойбище из двух чумов, утепленных понизу берестой и снегом.
— Как отдам тебе? — спросил я Тынея.
— Мои здесь только щенки. Остальное Белегин оставил. Считай, что так. Сам ушел на дно, а лодку его прибило к острову, здесь неподалеку. Он ведь на груженой лодке за тайменем погнался, страстный глупый человек. Мы что смогли — подобрали.
Потом он сунул руку за пазуху, достал небольшой кожаный мешочек, в каком хранят огниво, и бережно положил в мою руку. В мешочке была крохотная деревянная кукла — от времени она покрылась блестящим налетом железа.
— Твой алэл. Водой прибило… Сам вернулся, будто знал, что ты придешь. Ну вот, теперь ты совсем дома.
* * *
Мы забили оленей, соседи дали рыбы — так и пережили великий холод. Тыней появлялся часто — он всегда что-нибудь приносил с собой, но больше приходил, чтобы в этих разговорах выучить меня и Нару остяцкой речи. Йеха, немного знавший язык моего народа, продолжал дело старика, когда тот уходил. Ябто, знавший, наверное, все языки и наречия Древа Йонесси, в этом не участововал — он жил в другом чуме вместе с Куклой Человека, который молчал, а Ябто говорил только в случае крайней надобности, большей частью, когда его спрашивали о чем-то. Но это не мешало нам вместе охотиться и доставать рыбу из-подо льда. Большой окунь больше не являлся мне, но, видно, кайгус моей реки был и вправду великодушен — с голоду мы не умерли.
Однажды широкий человек сам позвал меня. Посреди плоской ложбины, снег в которой был притоптан до твердости камня, Ябто человек сидел на комле — возле его ног стояла длинная плаха из сухой окоренной лиственницы.
— Стрелы из лозы мастерят только мальчишки. Я покажу, как нужно делать настоящие, — смотри и запоминай.
Теслом он отделил от плахи древесное волокно толщиной в палец, проверил ровное ли оно, затем снял с пояса нож с коротким клинком и принялся оттачивать тело стрелы.
— Здесь, — указал он на середину древка, — делай чуть толще, чем в начале и конце. Стрела будет тяжелее, зато, когда сходит с тетивы, не извивается в полете — выстрел будет точнее и сильнее. Селькупы так делают, и я нашел это разумным.
Все у широкого человека было при себе — тонкая жилка, которой он прикрепил наконечник, и перо филина, отобранное, как я понял, с великим пристрастием.
— Этой плахи, при умении, хватит на три десятка хороших стрел. Наконечники научишься лить сам — ведь ты остяк.
Он поднялся и ушел.
* * *
Весной, когда рушился наст, Нара родила дочь. Перед родами пришли помогать жена и вдовая невестка Тынея. Разрешилась Нара легко, огорчившись лишь тем, что ребенок всего один. Прошло немного времени — и потянулись другие родичи. Мы сидели в чуме и принимали подарки. Последним вошел Ябто. Он снял с пояса мешочек и достал оттуда кожаный ремешок, на котором вертелись пожелтевшие костяные фигурки птиц.
Приняв подарок, Нара долго рассматривала его и улыбалась.
— Откуда это? — спросила она.
— Дали в память о двух маленьких мальчиках. Путь теперь будут у тебя. Больше у меня ничего нет.
Костяные птицы вонзились в мое сердце.
С того дня я хотел говорить с Ябто.
У меня не было страха перед ним — он остался в стойбище на Сытой реке. У меня не было ненависти к нему — его заглушило счастье, данное судьбой, счастье, спрятанное в мудром мире, стоящем на Йонесси. Другое жгло меня — я хотел знать, для чего она была, моя нерадостная жизнь? Почему так долог и тягостен был мой путь? Я не знал — стоит ли искать ответа у Ябто, и разум подсказывал, что не стоит. Но все главное в моей жизни было завязано на этом человеке с широким телом и отсутствующей шеей. Он был моим отцом и хозяином, я его сыном и рабом.
И, наконец, я спросил его:
— Скажи, я по-прежнему враг для тебя?
Он усмехнулся едва заметно.
— Нет.
— Потому что я спас тебя от смерти?
— Так ведь и я спас тебя от смерти.
— Чтобы сделать рабом.
— Раз не получился сын….
— Кто я для тебя теперь?
— Тот, кто милостиво дает кров на своей земле.
— Почему так низко ставишь себя?
— Кем себя может ставить мертвец?
— Но ты живой. Можешь охотиться, воевать. Можешь уйти и жить?
Он задумался.
— Ты попадаешь в мир неизвестно откуда, будто снежинка через дымовое отверстие, и исчезаешь неизвестно куда. Все остальное — шалости бесплотных, вроде той, что я еще хожу по земле, на которой меня уже нет. И то, что они не дают умереть бедному старику, у которого и имени-то не осталось, — тоже шалость.
— Завидуешь Кукле Человека?
— Глупый, пусть он мне завидует. Это ваше Древо Йонесси стоит только того, чтобы плюнуть ему под корни.
И тогда я встал и взял его за руку.
— Пойдем, ты обещал показать мне место, где нашел нас с братом.
— Не я, а моя черномордая сука. Хорошая была собака, особенно на белку… Там снег сейчас.
— Ты найдешь. Ты обещал. Если ничего не хочешь для себя, сделай для меня. Если тебя уже нет — не все ли равно.
Он смотрел на меня долго — видно, мои слова проняли его — и резко поднялся.
Мы пошли в ложбину, где под тяжелым снегом, прятались бездонные мхи.
— Где-то здесь, — сказал Ябто. — Я помню вот это дерево, теперь оно вдвое толще. И еще — отсюда был виден берег.
Берег действительно был рядом.
— Говори, — сказал я ему — сказал, как хозяин этих мест.
— О чем?
— Говори, как делал несчастными других людей. Меня, брата, свою жену…
— Я делал их счастливыми, как и саму жизнь вокруг них. Я вижу, ты ничего не понял из того, что видел, и уж тем более из того, что не знал. Садись.
И он рассказал мне все, — с того дня, когда лег в чуме, в котором уже не было оружия, и начал перебирать прожитое, как запутанную сеть, чтобы отыскать день, когда сломалась его жизнь.
Вставая, Ябто сказал, что не видит своей вины в том, что у него не получилось. И если что и прорежает тьму в его душе, так только мысль, что он решился на то, о чем другие даже не задумывались, и может быть, настанет время, когда такой человек родится, и у него получится все.