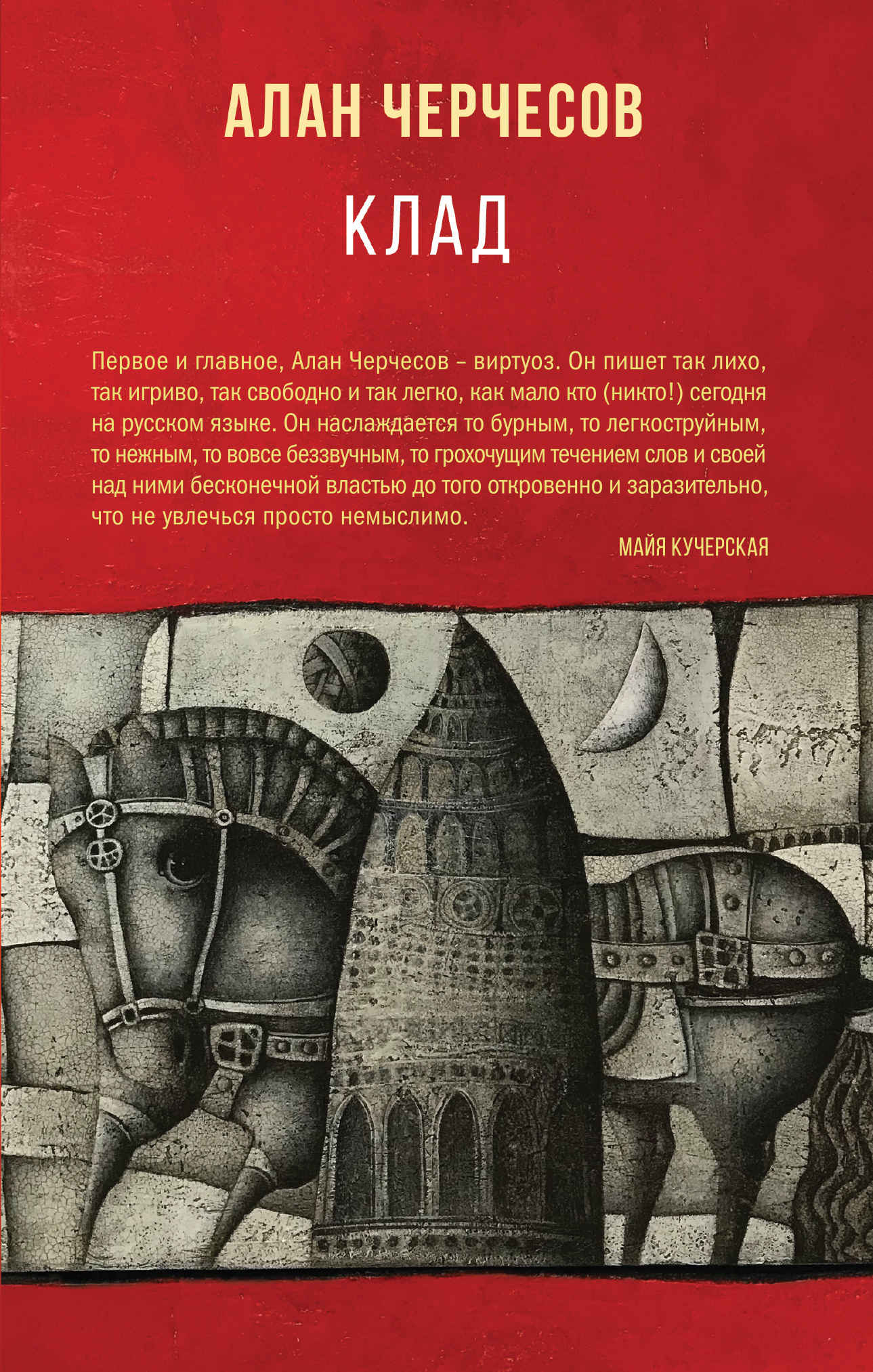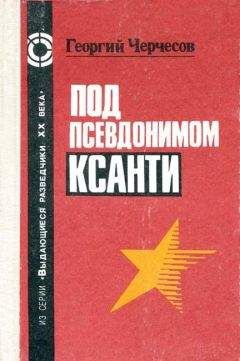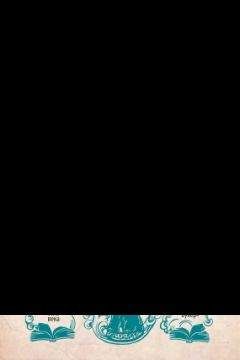лоб, обхватил ладонью подбородок, хотел стереть улыбку, но, пока прятал глаза, ею защищался. Наконец справился, взглянул в лицо:
– До осени полгода было.
– Вас трое оставалось? То есть… Ну… В общем… – Тимур смешался. – Ты, она и брат?
– Всевышний четвертого не допустил. Сами должны были решать. Сами – значит я. Поначалу нормально казалось. Вернее, со стороны нормально. Но… Будто идешь на запах дзыкка, а на чурек приходишь. Я ведь душу искал, чтоб печаль растопить (а она в ней повсюду была: в руках, когда масло сбивала, в спине, если вечерами за солнцем следила, в косе, когда к своему, потайному отворачивалась, в каждом молчании, что смех сменяло, что всегда в ней пряталось, потому как ею оно было – во всем молчание), согреть, увести хотел, а до нее, до печали, так и не дотянулся. Везде – а поймать не можешь. Как тревога. Но беды еще видно не было. И надежду я лаской кормил…
Тимур напрягся. Мальчишка, а он рядом посадил. Неужто не понимает, что мальчишка! Для ЭТОГО мальчишка. Не хочу!
– Вас трое было, – перебил он.
Дед осекся, пошамкал ртом, по лицу разлилась краска. «Нельзя было. Сейчас ударит. Никогда не бил, но сейчас ударит. Пусть», – подумал внук и выпрямился. Старик размышлял. Потом согласно кивнул и сказал:
– Трое. Дороже третьего у меня ничего не было: что ее потеряю, не знал тогда, считал, на всю жизнь решено. А с ним, чувствовал, расстаться придется, не удержать. Он с детства такой был. Будто огнем питался. На птицу был похож. Хорошую птицу. По утрам вставал и так кругом глядел, что вроде уж и в дорогу собрался.
Он ей козленка подарил. Маленького, пушистого, копытцами только траву щупал. Выйдет за двор и по аулу затрусит, никого не боится, заблеет тоненько – как рассмеется, как удивится… Весь хрупкий, и где ни тронешь, всюду сердце слышишь. Как жизнь в руках держишь. Мимо бежит, а собаки морды опускают, словно не замечают, чтобы не лаять, сердечка не испугать.
Угадал брат. Хотя, думаю, сам еще тогда и не знал, что к чему. Я не смог, а он угадал. Выходит, когда не твое, угадать проще.
– Не твоя? Ты хотел сказать – когда не твоя?
– Верно. Только и не моя была. В себе осталась. Я ждал, а она при мне и не запела ни разу. Но ведь должна была! То есть не то что должна – не могла не петь! Наедине-то точно пела, куда ж печали выйти, как не в песню. Но не слышал никогда. Даже за дверью стоючи, вслушиваясь. Ненавидел себя, но знал: должна петь!
– Не надо, – попросил Тимур.
– Так и не услышал. Не по мне, значит, слушать было. Мне видеть выпало… Ты не жмись! А то не так поймешь. Здесь чисто все.
Из города саженцы привез. Сирень. Для нее привез. Как цвела, понравилось. Решил под окном посадить, чтоб рукой могла достать. Брат на дворе корзины плел, ловко работал, пальцы быстрые, тонкие. А я с заступом у стены возился, о них обоих думал. На саженцы взгляд кину – легко станет, весело, смешно. Дерево вроде, а букетов полно, что за штука такая, думал. Ей понравится, думал. Весна придет – ахнет, думал. Листьев-то теперь для нее не будет. Какие листья, если… Ну, если жена моя. Уверен был. На брата посматривал, и душа радовалась: вместе. И никого мне больше нужно не было. Честное слово! Даже о ребенке в тот день не вспоминал, забыл, напрочь забыл. А перед тем мучился, пора бы ей, думал. А тут… Такой запах от земли шел, что в ушах звенело, в зобу щекотало. Осень еще теплая гуляла, земля ее залпом глотала: ест, ест, а наесться не может. Только я с саженцами кончил, здесь козленок заблеял. Жалобно так, тоскливо. И до того смешно мне это показалось, что уже захохотать готов был, выпрямился, на заступ оперся, потом оглянулся и… смех свой сплюнул. Пусто в горле стало, весь голос пропал, одна кислятина. Брат словно так и сидел, как прежде, и руки корзину держали, но только изменилось что-то. ПЛОХО было. Он в дом глядел. Я знал, на кого он глядел. Потому что видел, КАК глядел, что́ в глазах у него. И не удивился. Не удивился я! Самое это жуткое, будто заранее подозревал. Но ведь не было такого! Клянусь!.. Или про нее знал? Наверно, про нас с ней. Лишь надеждой себя дурманил. Но когда заступ к стене прислонил и дальше прошел, надежды и в помине не было, век как не было, никогда будто не было. Знал, ЧТО увижу, проверить хотел, до конца испить…
Она у порога присела, и козленок на руках. Но снова заблеял, а раньше никогда и голоса не подавал, если она держала, моргал лишь и о грудь ей терся. Только она сейчас не на него смотрела. Его черед кончился. Сперва листья, потом он (а меня так и не было), потом тот, кто его принес, кого я с детства знал, кто был на птицу похож и сидел теперь с корзиной в тонких пальцах, которыми сплел бы что угодно, только не гнездо. Гнезда бы сам не сплел. И вот это в глазах у них было. Это во мне и засело.
Потом на меня посмотрели. Не знаю, кто первый. Долго смотрели, не таились. И взгляда не отвели. Ни он, ни она! Я отвел, потому что не смог, сил не хватило. Стыдно сделалось, сухо во рту, будто на живую нору наступил. И сказал – противно так, словно оправдываясь: «Козленок… Плохо ему. Заболел, видно…» И потом опять молчали, уж не знаю сколько.
Вечером она ушла. Брат во дворе сидел, корзины доплетал. А как вернулась, поднялся, к реке пошел, я из дому видел. Друг на друга не смотрели. Только я следил. Как со стороны наблюдал. К платку ее сломанный лист присох, понял, что в лесу была. Но меня уже будто и не касалось. Успокоился вдруг. Потом брат прибежал, на руках козленка принес, тело на берегу подобрал, с обрыва, верно, упал. Тут я на нее взглянул – снова, как со стороны, – у нее только ноздри дрогнули, но глаз опять не отвела, будто ни при чем была.
А наутро брат вещи собрал… И я сказал: «Подожди до завтра», но он словно и не услышал. Тогда я опять сказал: «Подожди. Завтра тоже день будет». А он ответил: «Такой же, как и сегодня». И