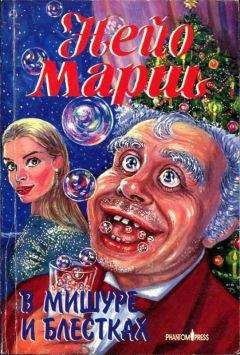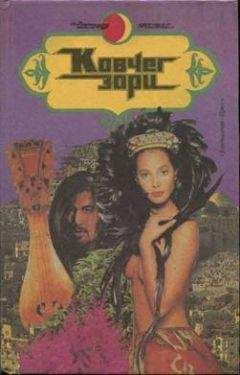…Подвал гудел от разговоров. Тут безбожно, как и водится в этих местах, где каждый толкует о своем, мешая в кучу выдумку и правду, верное и ложное, злое и доброе, со смехом бранили все на свете. Хочешь — соглашайся, не хочешь — нет. Никто не станет вдалбливать свои убеждения в твою голову кулаком или дубиной —
***
— Если судить по "Ригведе"…
— Я ей, дуре, говорю…
— То…
— Почему не приготовила поесть?
***
— Лучше уж ничему на свете не верить, это никому не вредит, — чем с упрямой скотской тупостью исповедовать ту или иную изуверскую блажь.
***
…Не спеша пропуская одну за другой чарку целительной ячменной водки и заедая ее сочной редькой, посыпанной солью, Омар, усмехаясь, слушая шумный разговор, то перекидывавшийся от одной кучки пьянчуг к другой, то распадавшийся на множество отдельных узких бесед. Хаос.
***
— Ничтожный век рождает ничтожных людей с ничтожными страстями. Такие же, как Омар, — они словно с другой планеты.
***
К Омару подсел какой-то человек.
— Правда, что ты Омар Хайям?
— Нет, что ты? Господь с тобою. Однофамилец. Проходу мне из-за этого нет. Тот давно уже спился и умер. Я с ним встречался, мир его праху. Замечательный был поэт.
***
— Хвастовство — хуже предательства. Самообман. Бахвальство властей переходит в бахвальство подданных. И все, черпая силу в собственном хвастовстве, как бы блаженно задремывают, надеясь на эту туманную силу: мол, попробуй, тронь. И когда их, блаженно полусонных, начинает кто-то, и впрямь сильный, яростно бить, они — хвать! — а силы-то нет, вся изошла в безудержном бахвальстве.
Предатель — тот предает других. Пустой бахвал — самого себя.
…Между помостами бродил откуда-то затесавшийся калека и всем рассказывал, путаясь, как он храбро сражался в таком-то году с византийским кайсаром Романом Диогеном.
Это случилось столько-то лет тому назад, и война та длилась столько-то месяцев, а ему теперь уже шестьдесят, — и все-таки, видите, самым ярким и, пожалуй, единственно ярким воспоминанием в его жизни было, как он тогда убивал и как его покалечили.
Неужели без войны жизнь у него так и прошла бы, с первых дней до последних серой, скучной, так, что и нечего вспомнить? Удивительно устроен иной человек…
***
— Неистребимая жизнерадостность — еще не признак высокого ума! Кабан, предназначенный для заклания, тоже за час до смерти довольно хрюкает, переваривая жратву.
***
— У молодых поэтов зубы еще не прорезались, у старых уже выпали. Потому-то нынче сплошь беззуба наша поэзия. Один Омар Хайям зубаст. И тому, видит бог, скоро выбьют его острые зубы…
***
"Может, и впрямь поклониться Зохре? Не убудет тебя. — Он уже немного жалел, что оттолкнул ее. — По всему видать, она пойдет на сделку! Э! — Омар скривился от омерзения. — Я не могу собой торговать!
Вот если б найти Ферузэ… Она где-то здесь, если жива. Сколько же ей теперь?"
***
— Персы — народ удивительный. Рыжий деспот Искандер Двурогий жег их священные книги, ломал их храмы. Арабы подвергли их страну разгрому. Теперь сельджукиды терзают ее. А они живут, говорят на своем языке и сочиняют стихи, самые певучие в мире.
***
— Арабы, видать, люди все ученые.
— Почему?
— Потому что все умеют говорить по-арабски.
— Ха!
— Абу-Рейхан Беруни был велик, спору нет, — но жаль, он презирал свой родной хорезмийский язык и персидский не признавал: "Поношение по-арабски мне милее, чем похвала по-персидски". Мол, персидский годится лишь для сказок ночных.
— Что поделаешь, если повсюду засилье арабского языка? Без него в люди не выйдешь. Суть не в том, на каком языке писать. А в том, чтобы владеть языком, на котором пишешь, в совершенстве. Быть в нем, как птица в воздухе, рыба в воде, держаться свободно и естественно, без потуг, — чтобы ты им владел, а не он тобой, понятно? И все можно простить Беруни за его великие слова:
"Да покарает аллах всех тех, кто радуется, причиняя мучения другому существу, одаренному чувствами и не приносящему вреда!"
***
— Люди придумали бога, чтобы оправдать свое бесцельное существование. Мол, сотворил нас господь, потому и живем, что тут поделаешь. И не хотят п пальцем шевельнуть, чтоб изменить свою жизнь к лучшему. Пусть бог ее меняет, если это ему угодно…
***
…У Омара в голове помутилось от этих разговоров! И, чтоб освежить ее, он попросил виночерпия принести ему еще один кувшинчик ячменной водки.
***
— Лишь дураки неизменны! Они всегда верны себе. Ведь сказано кем-то:
И пьяный — опять же он с тем, что имел:
Бывает, что умный, подвыпив, глупеет, —
Кто видел, чтоб глупый, хлебнув, поумнел?
***
— В квартале Хире один человек решил сгоряча покончить жизнь самоубийством. Раздобыл он у лекаря яд, проглотил. Но яд оказался поддельным. Пришли друзья отпраздновать его чудесное спасение. И что вы думаете? Счастливчик умер, отравившись сластями, которые принесли гости.
***
— Бедным пьянчугам нигде ходу нет! Выйдет на улицу: или разбойник его изобьет и ограбит, или страж его схватит и деньги отнимет. Вот если б стражи гак же ретиво хватали разбойников! Но нет, это рискованно — разбойник может ножом ударить. А пьянчуга — слабосилен, он и так на ногах еле стоит, его не опасно терзать.
— Страж — он и есть первый разбойник.
— Хуже!
— Вот пусть и режутся между собой, не мешают нам жить…
— Власть не прощает нам ни одного малого промаха, почему же мы должны ей прощать ее огромные ошибки и упущения?
— Она — власть.
— Ну, и пусть живет без нас, — мы без нее уж как-нибудь проживем.
***
Эй, послушайте! Я тоже стихи сочинил.
Ну-ка, ну-ка.
— Уйдешь, я утоплюсь! — она вослед мне стонет.
Что делать? Воротился я, несчастный:
Забыл, что кое-что в воде не тонет…
— Ха-ха-ха!
***
"Сколько же лет Ферузэ?
Она… на тринадцать старше меня. Сорок пять плюс тринадцать…Ого! Старуха. Ну, все равно. Если найду, приведу к себе. Невмоготу стало жить одному".
***
Служитель у входа коротко свистнул. Шум в подвале сразу улегся. Разом исчезли чаши с вином, появились чаши с шербетом. Один из музыкантов затренькал на дутаре.
В подвал, как полный бурдюк в колодец, опустил свое брюхо, тяжело переваливаясь, носатый, усатый мухтасиб — блюститель нравов. Сопровождавшие его четверо с палками остались наверху.
— Ассалам ваалейкум! — просипел мухтасиб.
— Ваалейкум ассалам! — дружно ответили бражники, стараясь напустить на себя самый невинно-трезвый вид.
Блюститель нравов подозрительно обвел глазами их опухшие лица, обратил грозный взор на хозяина харчевни, склонившегося в угодливом поклоне.
— Пожалуйте, ваше степенство! Пожалуйте. — Хозяин харчевни, кланяясь на ходу, почтительно проводил его под руку на кухню. Все замерли. Там что-то звякнуло.
Мухтасиб с важным видом вынес брюхо из кухни и, ни на кого не глядя, понес его к выходу. Хозяин все так же поддерживал его под руку.
— Вымогатель, — сплюнул хозяин харчевни, проводив блюстителя нравов. — Он меня разорит! Пять динаров содрал. И так почти каждый день. Тьфу! Продолжайте, друзья. Он больше сюда не придет.
И сразу будто ладони отняли от ушей, — в них снова хлынул звон чаш, веселый смех, разговор.
— Ты дерешь с нас, он дерет с тебя. С него тоже кто-то дерет. Только нам, несчастным, не с кого драть, — что заработаем своими руками, на то и пьем…
— Всю жизнь терзая мою душу, не забывали заметить, что это — мне же на пользу; как будто я сам не знаю, что мне на пользу, а что — во вред. Я-то себя знаю лучше других. Им не влезть в мою шкуру.
***
— Человеческая жизнь ничего не стала стоить. Никто уже ни в чем не уверен: ни в себе, ни в жене, ни в друге, ни в завтрашнем дне.
***
— Девчонка, мудрая, как старуха, — это ужасно! Но еще ужаснее старуха, глупая, как девчонка…
***
В другом углу:
— Нынче курица кудахчет громче прежних, но яиц не несет. А снесет одно убогое яйцо — где-то бросит его и забудет, где.
***
— Один известный человек случайно ушиб ногу и прошел по улице хромая. Другой увидел его в этот единственный, первый и последний, раз. Тот уже на следующий день перестал хромать. Но для этого он на всю жизнь остался калекой: "Он хромой! Я видел собственными глазами…"
***
"…А может, поехать в Ходжент, разыскать Рейхан? Ведь у меня есть на нее какие-то права… Но если она вышла замуж, — я ей сам разрешил, — и наплодила детей, вот уж к месту будет мое неожиданное появление! Нет уж, лучше старое не ворошить".
***
Дым, чад, звон чаш.
Поспели суп, и плов, и шашлык, и служители забегали с подносами между помостами. Но Омар не мог есть вне дома. И дома — лишь то, что приготовил на свой вкус, своими руками.