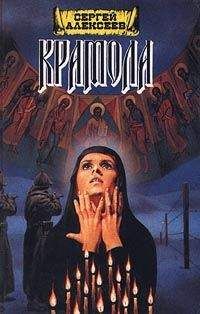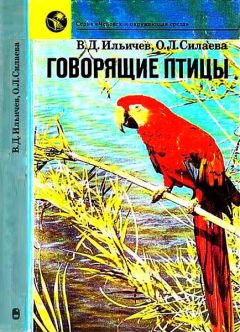Тот день был Днем Ивана Купалы…
Березино горело смрадным, дымным огнем. Весенний низовой ветер раздувал пожар, гнал его по травам от избы к избе, переносил в разные концы сверкающими углями и мелкими головнями. Гул, подобный гулу весенней воды в Кровавом овраге, поднимался над селом вместе с дымом и на ветреных крыльях уносился в небо.
Тем временем бойцы внутренней охраны уже пришли пешим строем в село Свободное, сделали привал и, запалив факелы, стали поджигать крайние богатые дома. Свободное было пустое: республика была на казарменном положении, и все люди, расписанные по частям и взводам ополчения, жили в Березине. Соседнее село держали на всякий случай, если придется отойти для стратегического маневра и последующего сокрушительного удара по неприятелю. Правда, оставался там свободненский книгочей Елизар, не пожелавший вступить в Республику, а затем отвергнутый ею, как склонный к буржуазным привычкам и предрассудкам. Книгочея под страхом казни обязали охранять постройки. Когда красные бойцы запалили Свободное, Елизар выскочил из своей избы и попытался остановить поджигателей. Его и слушать не стали. Елизар взял в руки Евангелие и, воздев его над головой, пошел на лиходеев. Над ним сначала смеялись, но потом связали на всякий случай и, когда село разгорелось как следует, увели в Березино.
Там же полыхало так, что огонь из домов вырывался какой-то белый, и было больно смотреть на него. И напротив, дым поднимался черный, как сажа, тянулся в небо и марал белые облака.
И никто не тушил этого пожара.
Оглушенные взрывами снарядов, контуженные, иссеченные и ослепленные землей, солдаты Партизанской Республики, будто сонные, зачарованно бродили среди пылающих домов. Ходячих осталось немного, десятка три. Остальные либо умирали от ран на засеке и по лесу, либо уже умерли под пулеметным и артиллерийским огнем. Бабы с грудничками на руках и гроздьями цепляющихся за подолы ребятишек метались вокруг огня, и долгий крик, вплетаясь в дым и гул пожара, оглашал пространство:
— Мамочки, мамочки, ма-мо-чки-и!!!
И не было в тот час ни одной души в батальоне карателей, которая содрогнулась бы от творящегося вокруг убийства. Объявленная вне закона Республика Мамухина уже была давно приговорена как логово бандитов и головорезов, поэтому бойцы внутренней охраны как бы задним числом вершили то, что уже свершилось и не подлежало обжалованию. Заняв пылающее село, они сгоняли на площадь остатки армии мировой революции. Если где возникало сопротивление и враг не сдавался — его уничтожали. Специальная команда собирала брошенные винтовки и шашки, пихала в огонь деревянные, окованные обручами пушки, а также другой трофей в виде скота, крестьянской утвари и хлеба. Все это никому уже не могло понадобиться в Березине, ибо живых людей уже не существовало, как, впрочем, и самого села. Остатки воинства в прожженных гимнастерках и окровавленном тряпье сидели возле церкви, под стенами пылающих недостроенных казарм, где недавно еще маршировали парадным шагом, и затравленно поглядывали на бдительную охрану. Фактически они еще были живы, но их тоже не существовало.
То, что вчера еще казалось реальностью, имело плоть и кровь, сегодня превратилось в мир призраков. И каратели, добивая обреченных людей, не брали греха на душу, поскольку уподобились разящим Ангелам при Страшном Суде: великое торжество овладело бойцами.
Каким-то чудом пожар не перекинулся на церковь, и она оставалась единственным целым сооружением, воздвигнутым руками человека.
Михаил Березин бродил среди дымного пожарища, доставал раненых и вытаскивал на улицу. Некоторых бинтовал и останавливал кровь чем придется, а чаще констатировал смерть. Несколько раз бойцы внутренней охраны хватали его, чтобы утащить на площадь, однако отпускали, видя его занятие. Как только мимо пробегали вооруженные люди, Михаил немедленно останавливался и поднимал руки высоко вверх. За это его перестали трогать. Когда он собрал всех раненых и уложил их вдоль улицы, то стал ходить из конца в конец ее, заново перевязывая раны и подкладывая под лежащих то доски, то сорванные калитки и двери, чтобы не оставлять на холодной земле. Получился длинный, во все село, госпиталь. Он ходил и как сумасшедший твердил одно и то же слово:
— Безумие, безумие…
И раненые отвечали ему долгими, безумными взглядами.
Рыжий порученец командующего, уязвленный пулей в голову, потерял много крови и находился в состоянии между жизнью и смертью. Он бредил, сжимая кулачки ослабевших рук:
— Нас не взять… Мы непобедимы… А мне дадут коня, дадут светлую шашку и буденовку с голубой звездой… Мы — непобедимы…
Пожалуй, он один оставался несломленным. Разоруженное воинство, истерзанное и смешанное с землей, сидело возле церкви в злом и горестном настроении. Республика рухнула с таким треском и так стремительно, что еще не было времени осмыслить крах, и партизаны, будто ерши, выброшенные из воды, хлопали ртами и топорщили колючки. Батальон же в который раз прочесывал территорию вокруг Березина, и когда были выловлены последние сопротивленцы, командир выстроил их в две шеренги и приказал раздеваться.
Бабы и малолетние ребятишки, стоящие на другом краю площади, за спинами бойцов внутренней охраны, уже оплакавшие сгоревшие избы и побитых мужей, завыли с утроенной силой. Они глядели, как уцелевшие отцы, братья и мужья стаскивают с себя военную одежду, сапоги и, оставаясь в исподнем, бросают все в кучу. А расторопные красноармейцы грузят имущество на подводу и увозят его из села. И когда бойцам осталось выстроиться и поднять винтовки, а мужикам — бывшим партизанам — осталось жить не больше минуты, над Березином вдруг возникла поразительная тишина. Наверное, людям вначале почудилось, будто они оглохли, поскольку многие ковыряли в ушах, а командир батальона тряс еще головой и делал глотательные движения.
Но потом стало понятно, что голоса слыхать, если говорить друг другу в ухо, а звонкости не стало и эхо исчезло, будто село ватой обложили. Командир крикнул команду построиться, а его никто не слышит. Видят только разинутый рот и не поймут, какой приказ. Тогда он обежал бойцов, растолковал и с горем пополам построил. Бойцы встали с винтовками к ноге, бывшие партизаны почувствовали смерть и слегка стушевались, но тут увидели, что из леса идет сам командующий Дмитрий Мамухин с сыном Ленькой-Ангелом, а на поясе у него огромная сабля без ножен, в руках — красный флаг со звездой и белым шитьем «Даешь мировую революцию!». Мужики сразу распрямились, встали по стойке «смирно». А командующий встал впереди шеренги своего воинства, отдал знамя Леньке, сам же взял саблю и прижал к сердцу.
— Хочу умереть с оружием в руках! — крикнул он палачам и изменникам. — Да здравствует революция!
Но никто его не услышал из бойцов внутренней охраны. И свои не услышали, хотя по губам поняли, о чем он сказал. Мамухин же поторопил командира:
— Стреляй скорей, предатель! Стреляй в красное знамя революции! Стреляй в верных вождей и борцов!
Командир снова забыл, что голоса в Березине свою звонкость утратили, поднял свою шашку и крикнул:
— Именем революции-ии! По врагам Советской власти-и!..
Бойцы же не услышали и не подняли винтовок. Они смотрели на бывших партизан в исподнем, а те — на бойцов внутренней охраны.
Тем временем Михаил стаскивал раненых к церкви и увидел два этих строя. Обращаться к кому-либо из них не имело смысла: по его разумению, все они страдали безумием, поэтому он бросился к помертвевшей толпе женщин и детей, стоящей за шеренгой бойцов внутренней охраны.
— Женщины! Дети! — закричал он, расталкивая народ и будоража толпу. — Спасайте отцов своих! Спасайте мужей! Идите и не дайте стрелять! Женщины! Дети! Спасайте!!
Он кричал им в уши, в лица, в глаза, дергал за руки, за одежду, словно будил спящих.
— Вставайте на колени! Кланяйтесь солдатам! Кланяйтесь! И плачьте! Плачьте и спасайте!!
И женщины, будто и впрямь проснувшись, оживились, зашевелились, встали на колени и поползли к бойцам внутренней охраны. А ребятишки, оторвавшись от юбок, ринулись вперед и обняли усталые солдатские ноги, затормошили штанины, голяшки сапог:
— Дяденька, не стреляй, дяденька!
Плачущие женщины протягивали на руках к ним грудничков, и те ревели, закатываясь от крика.
Ничего не было слышно в тот час в Березине, а этот громогласный плач и ор пробил глухоту и разлился под черным, дымным небом.
И дрогнули бойцы. Часто-часто заморгали, потянулись черными от сажи и пороха кулаками к глазам.
А женский плач становился будто колокольный набат, и детские голоса подзванивали ему малыми колокольцами.
Бывшие воины Партизанской Республики потупили головы, хотя все еще посматривали на развевающееся боевое знамя. Последним сломался командир батальона внутренней охраны. Он подошел к Мамухину, вырвал из его рук саблю с острым жалом, всадил по рукоять в оттаявшую землю и отломил эфес.