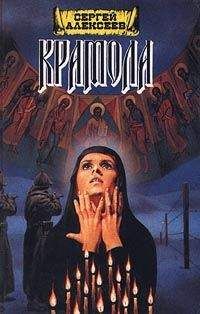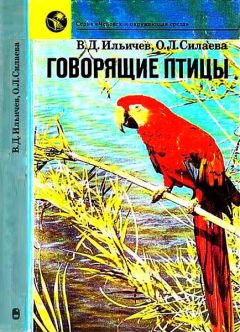Бывший командующий сел в изголовье своего наследника, поглядел в пламенеющие глаза и сказал:
— Слушай меня, сынок. Был я орлом и высоко летал, так что земля внизу маленькая казалась. Но отлетал я, сломали мне крылья изменники и коварно прервали полет. Дальше тебе лететь. Ты понесешь революцию через Балканы и Кордильеры, через моря и океаны. Вот тебе боевое знамя, вот тебе буденовка с голубой звездой и вот тебе сабля, выкованная твоим отцом. Враги сломали ее, но она длинная, и можно поставить новый эфес. И длины ее хватит, чтобы достать любого врага мирового пролетариата.
Мальчик спрятал знамя на груди, надел на забинтованную голову буденовку и положил рядом лезвие сабли.
— Как только встану на ноги — все сделаю, как ты велишь! — поклялся он. — И не будет пощады врагам!
Мамухин потрепал приемного сына по щеке и, удовлетворенный, вышел из алтаря, сел в угол и мгновенно заснул.
И ему уже больше не снилось, что он орел…
Михаил Березин оказался свидетелем передачи наследства. Он вслушивался в слова бывшего командующего, и ему становилось страшно. Перед глазами возникали березы с разорванными людьми, марширующие колонны солдат, поля примкнутых штыков над головами и короткоствольные, со зловещими жерлами, орудия. Он понимал и верил, что человек в силах остановить и березы, поднимающие человека, и солдатские колонны, и даже снаряды, вылетающие из стволов. Он верил, что можно остановить безумство. Ведь удалось же поднять женщин и детей, стряхнуть с них оцепенение перед страхом смерти и послать к бойцам внутренней охраны, чтобы задержать их поднятую руку. Там, возле засеки, когда выкатывали орудия, а потом обстреливали села, он оказался бессильным, потому что люди оглохли и обезумели от огня. Здесь удалось, ибо была тишина и солдаты услышали женский плач и детский крик.
Теперь следовало остановить мальчика, принявшего атрибуты войны. Вначале Михаил хотел выкрасть их, когда наследник уснет либо впадет в беспамятство. Он дождался ночи и, подкравшись к больному, пытался забрать лезвие сабли, но мальчик, получив наследство, охранял его бдительно и перестал спать. К тому же он заметно стал поправляться и уже поднимал голову.
— Ко мне не прикасаться! — предупредил он. — Ближе, чем на шаг, не подходить!
Тогда Михаил попробовал уговорить его и даже обмануть.
— Я боюсь, что ты порежешь руку, — сказал он. — Дай я положу ее к стене или воткну на видном месте.
— Не бойся, не порежу, — ответил мальчик с гримасой отвращения на лице. — И не лезь близко. Я тебя наскрозь вижу!
Ухаживая за ранеными, Михаил думал о нем каждую минуту. Он подыскивал слова, готовил убедительные фразы, изобретал способы, как отобрать эти атрибуты, но ничего толкового придумать не мог. Мальчик же будто и впрямь видел его насквозь. Когда Михаил особенно сильно сосредоточивался на своих мыслях, наследник замечал негромким еще, слабым голосом:
— Одыбаюсь, лекарь, встряхну твою головенку.
Березино тем временем постепенно оживало. Мужики, сделав сохи, впряглись в них и пошли пахать землю. И чем больше они пахали, чем больше уставали и мазались в земле, тем осмысленней становились их глаза. Они перестали ходить строем и топать ногами, отбивая шаг, перестали ждать команды есть, когда бабы накладывали им в черепки и мятые плошки вареную крапиву и лебеду. Они просто брали ложки (ложки батальон не реквизировал, и они остались на земле, высыпавшись из-за голенищ, когда разувались) и ели каждый сам по себе. Взгляды при этом становились задумчивыми и печальными. Михаил в такие мгновения испытывал радость и восхищение!
Однако стоило прийти в алтарь, как он, будто на копья, натыкался на глаза мальчика.
Выход был. Но всякий раз сознание оказывалось перед непреодолимой стеной.
Он выбегал в поле, под низкое серое небо, и кричал:
— Не могу! Я врач! Не мо-гу-у!!
А мальчик поправлялся на глазах. Он уже начинал садиться и, взяв на колени саблю, щупать острие лезвия. Глаза его разгорались огнем безумия, когда он разворачивал на коленях знамя. Тогда он шептал:
— Встану! Встану сам и подниму других. И мы пойдем, пойдем железной поступью…
На ночь он обнимал свои игрушки, прижимал их к груди и засыпал.
— Я не могу, не могу, — горячо шептал и мучился Михаил. — Все, что угодно, только не это… Я давал клятву… Не перешагну, не могу…
И видел уже в сотый раз, как маршируют солдаты, как заряжают орудия и как поднимает винтовки шеренга бойцов.
Он понял, что ничего больше не остается. Он взял топор, брошенный спящими, смертельно уставшими мужиками, пробрался в алтарь и встал у изголовья наследника. Он еще думал, что рука не поднимется. Что в мире должно произойти нечто, что сможет остановить безумие войны. Он ждал истины до последнего мгновения.
Но вместо истины увидел белую, суровую нить, бесконечно текущую в руках пряхи. И не было силы, чтобы порвать ее…
Потом он бежал в темную ночь, не разбирая дороги, и черное небо, ломаясь и растрескиваясь, глыбами и каменьями обрушилось на его голову.
С той поры место, где была Партизанская Республика, стало проклятым местом.
А партизанская засека считалась неким порубежьем, за которое люди боялись ходить, и если уж случалась великая нужда, то обходили далеко стороной. Никто воочию не видел и точно не знал, что там произошло. Одни говорили, будто за лесным завалом вспыхнула чума, другие — сибирская язва, болезнь страшная, заразная и неподвластная времени. Третьи утверждали, будто разбойное население бывших когда-то сел покарал, спалив огнем, Господь Бог, как покарал Он Содом и Гоморру.
Одним словом, проклятое место.
Кому доводилось бывать неподалеку от засеки, рассказывали потом, будто на человека нападает необъяснимая жуть, слабнут ноги, трясутся руки и душа самого безбожного просит молитвы. Кто же был способен преодолеть этот страх и забраться на верх древесного вала, говорили, что за ним ходят люди-призраки и в тихую погоду слышны их веселые голоса, песни, звон кос под молотком-отбойником, детский плач и конское ржание.
Время, как мох лесную землю, затягивало проклятое место сказками и легендами. Можно было бы порасспросить очевидцев, что там на самом деле произошло, и снять проклятие, как снимают паутину из углов заброшенного жилища, но дело в том, что нигде по всему Есаульскому уезду никто больше не встречал ни одного жителя этих двух сел. Поэтому названия их были стерты с карт, чтобы не цеплялся глаз и не путалась мысль.
Дорога в Березино постепенно заросла.
И началось его Великое Забвение.
Город Есаульск погибал…
Умирал он медленно, без болезненной лихорадки и суеты, как старик, давно осознавший свою смерть и готовый, к ней душой и сердцем. Умирал, хотя летами был не стар и находился в самом расцвете — всего-то чуть перевалило за триста. Говорят, и ворон может прожить столько. А что городу птичий век?
Жизнь еще теплилась, пока он жил старым «жиром». Когда-то душой и умом города были люди, называемые гражданами. Они строили его, украшали и наполняли чувственным содержанием — оно-то и было главным богатством купеческого и промышленного городка. Но вот не стало купцов, промышленников и кустарей и сразу же не стало граждан. Оставшихся людей назвали рабочими, служащими, а точнее — населением, душой сделали судоремонтный завод — с этого момента и лег он на смертный одр.
Основанный когда-то именитыми гражданами судоремонтный завод строил белые богатые пароходы и распускал их по многим сибирским рекам, словно лебединую стаю. После революционных потрясений и многократных штурмов в гражданскую завод захирел и мог только ремонтировать старые колесники. Будь живыми граждане, может, и подняли бы его, но вдохнуть новую жизнь оказалось некому, и скоро судоремонтный начал клепать небольшие тупоносые катера и лесовозные баржи. А в последние годы и вовсе опустился, спуская со стапелей понтоны для мостов, бензиновые бочки и железные сейфы для денег и документов. Столетние станки и оборудование настолько износились, что в есаульских домах мелко дрожали стекла в окнах, когда завод начинал работу. А начинал ее и заканчивал по гудку, трижды в день оглашающему все пространство над городом. По первому гудку население Есаульска обязано было проснуться и встать, а по второму перешагнуть порог проходной. Промежуток между ними был невелик, но точно рассчитан. После третьего гудка открывалась проходная, и люди до утра по своему усмотрению тратили свободное время. Лишь по воскресеньям над городом целый день была тишина. Рабочие привыкли к звуковому режиму, по которому можно было жить, не имея личных часов и не заботясь о том, как протекает время жизни. Гудок был святым и царствующим над жизнью каждого человека и целого мира; голос его приравнивался к проявлению высшей власти и относился уже не к земному делу, а к божественному.