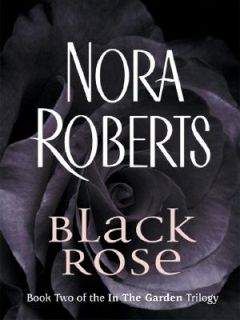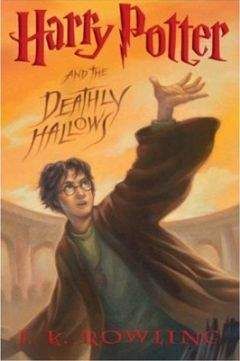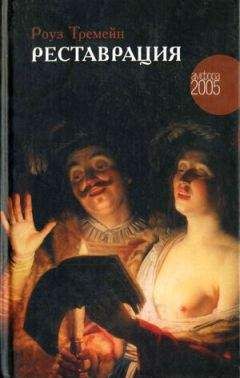и о мраморных склепах, где укрываются богатые покойники, а Белль в ответ лишь презрительно фыркает и говорит: «Ну, с ними мы еще
разберемся!» И, словно взбодрившись от этих новостей, она принимается изображать радушную хозяйку перед молодыми актрисами из Королевского театра Виктории, которые приходят в мастерскую, со смехом и визгом примеряют свои исполинские парики и, жеманно восторгаясь, гарцуют по комнате.
Лили смотрит на этих девушек, которые выглядят совершенно беззаботными и нимало не стесняются шума, суеты и самолюбования, и жалеет, что она не такая. Ей хочется спросить, бросали ли кого-нибудь из них в младенчестве у ворот парка, из тьмы которого вышли волки и обглодали их пальчики. Ей хочется сказать: «Разве кого-нибудь из вас сажали в тюрьму на пять лет, предавали благодетельницы и насиловали жестокие женщины? Разве у кого-нибудь из вас была подруга, которая тосковала по аромату кофе из бакалеи и повесилась в ткацкой мастерской?» Но она молчит и только смотрит, как они красуются в своих париках друг перед другом, щеголяют превращением из бедных девушек в аристократок благодаря лишь наслоению кудрей, лент и кружева, и их переполняют предвкушение и надежда.
Надежда.
Лили знает, что с ее стороны глупо на что-то надеяться. Она утешается мыслью, что надежду, возможно, обрели другие девочки, те, кто думал, что все уже потеряно, – девочки из Госпиталя для найденышей, которые больше никогда не окажутся в комнате сестры Мод и которые со временем начнут забывать о своем позоре. Сидя за шитьем или прядением, они однажды осмелятся представить для себя достойное будущее, доброго нанимателя, мужа, место, которое они смогут назвать домом. И она принимает решение: когда ее будут судить за убийство, она так и скажет – что убила ради свободы других.
Проведя несколько дней рядом с Белль, она, копируя один из хитрых способов мисс Чаровилл «снять боль», стала накачиваться джином – лишь для того, чтобы позволить себе провести час за прекрасными фантазиями. Бутылку она хранит под кроватью на Ле-Бон-стрит и, возвращаясь туда вечерами, ложится и пьет, пока комната не начинает ходить ходуном. Тогда она трясущимися руками разжигает камин, садится на пол возле него и уносится в какое-то далекое лесистое место, безымянное, но точно вдалеке от Лондона, где сидит под огромным раскидистым деревом и смотрит, как солнечный свет заливает поляну и скромные цветы, названия которых они с Нелли перечисляли, когда шли по просеке, что ведет к тракту на Свэйти. Иногда она впускает на эту поляну незнакомца. Она старается представлять его молодым и красивым, но, когда он движется в ее сторону, она видит, что он совсем не такой, он обычный мужчина, которого она тщетно пытается выбросить из головы.
Однажды вечером, когда огонь в очаге почти угас, а комната все еще пляшет, как плясали живые изгороди на ветру, когда Лили пила сидр с Перкином Баком, она понимает, что он здесь. Она понимает, что это он, еще до того, как он стучится в ее дверь. Еще мгновение она не двигается с места у огня. От звука его шагов по каменной лестнице ее сердце пускается вскачь. Она прячет бутылку с джином под кровать и часто моргает, пытаясь усмирить вертящуюся комнату. Он останавливается у ее окна и заглядывает внутрь, и, увидев ее, прижимает ладонь к оконному стеклу, словно думает, что она может испариться, если он не удержит ее своей ухватистой рукой.
Она открывает ему дверь – вид у него крайне удрученный. Он успел снять цилиндр и прижимает его к груди, как щит. Под своим тяжелым пальто он совершенно поник.
– Лили, – говорит он, – как же я рад, что застал вас…
Они стоят лицом к лицу. Порыв ветра вихрем закручивает горстку пыли на маленькой площадке, где стоит он.
Сэм Тренч.
Лили понимает: что бы ни произошло сегодня ночью, оттиск его имени останется в ее душе навсегда. Эхо его будет отдаваться бесконечно, словно две ноты, которые никак не превратятся в мотив.
– Я приходил на Лонг-Акр, искал вас.
– Да.
– И вас там не было. И в церкви вас не было.
– Нет.
– Я боялся, что вы уехали.
– Нет. Белль Чаровилл была больна, и мне пришлось за ней ухаживать и ночевать у нее дома.
– Я думал, что с вами что-то случилось.
Она шагает в глубину комнаты, которую все еще согревают посеревшие угли, и Сэм Тренч заходит внутрь, и она закрывает за ним дверь. Она жалеет, что выпила джина и теперь с трудом соображает, что ему сказать, и все мысли ее разбегаются в стороны, кроме одной: почему у него такой пасмурный вид. Она находит в себе силы спросить его, не хочет ли он снять свое толстое пальто. Он начинает расстегивать пуговицы, а потом делает нечто странное. Он снимает пальто, накидывает его ей на плечи и, все еще держа его за лацканы, притягивает ее к себе. И тогда она оказывается в коконе его запаха, между его тяжелым пальто и его теплым телом, и лицо ее прижато к его плечу, и его руки нежно смыкаются вокруг нее.
Ей хочется поднять лицо и взглянуть на него. Она жаждет, чтобы он ее поцеловал, но волнуется, что ему будет неприятно от вкуса и запаха джина, поэтому стоит не шелохнувшись и льнет к нему, вжимается щекой в темную саржу его форменного костюма и думает: «Таким все и должно остаться между мной и Сэмом Тренчем – заклейменным бренностью человеческого мира. Иначе и быть не может».
Через несколько минут безмолвия он шепчет ей:
– Я должен кое-что сказать вам, Лили.
И тут она понимает, что пришел момент расплаты. Но ей невыносимо думать о том, что вот сейчас он предъявит ей обвинение, хотя она завернута в его пальто и грудью чувствует, как бьется его сердце. Поэтому, не выбираясь из его объятий, она говорит:
– Вы можете сберечь слова. Я знаю, о чем идет речь, и сама расскажу вам, как все произошло.
И она выпускает правду на волю. Укрывшись в объятиях Сэма, она рассказывает, как в первый день в Госпитале для найденышей сестра Мод отняла ее у Нелли Бак, и как потом прозвала ее «мисс Негодницей», и как порола и наказывала, и как позже украла у нее письмо от благодетельницы, и как после этого поняла, что Лили Мортимер у нее в руках и что она может поступать с нею, как ей хочется. И что «хотелось» ей унижать и стыдить ее, поэтому Лили проживала свои дни там