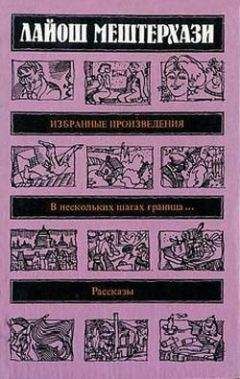Мы ушли от жандармов уже далеко вперед, когда Бела, вздыхая, сказал:
– Ух, жарко! Меня, если хочешь знать, даже пот прошиб от страха…
И у меня пересохло горло и душа ушла в пятки. Дорога в верхний поселок была довольно длинная и очень крутая. Я полагал, что у Тамаша Покола и компании вполне достанет времени, чтобы натравить на нас всех местных шпиков. Я сказал Беле:
– Если судьба сведет нас еще раз с жандармами, мы едва ли легко отделаемся.
Не помню, где я читал: во время эпидемии холеры раньше других заболевает тот, кто больше всего боится заболеть. А жандарм, как видно, та же холера. Едва проговорил последнее слово – возможно, я сказал это е без причины: мне показалось, что за неожиданным поворотом послышались шаги идущих навстречу людей, – как перед нами снова выросли два жандарма. Они стояли в десяти шагах от нас, немного в стороне от дороги, за поворотом, – наверное, в засаде. Мы едва сдержали дрожь в ногах и приготовились играть прежнюю комедию. Мы продолжали идти и, когда оказались почти рядом, коснулись руками края фуражек. Один жандарм вышел на дорогу и махнул.
– Подойдите сюда!.. Документы!
Что теперь будет?
Если бы они стояли перед нами оба, тогда бы мы могли напасть на них одновременно; может быть, мы обезоружили бы их, может быть, тогда у нас была бы хоть крошечная надежда…
Мы смущенно посмотрели вокруг, потом я сунул руку во внутренний карман – разумеется, за письмом Ваги, которое у нас оставалось.
В это время подошли шедшие за нами два шахтера. Я никогда их не видел, но, словно бы мы были закадычными друзьями, один из них задорно сказал:
– Так, так, беседуете, Йошка, тратите дорогое время на господ жандармов! Опять опоздаете на смену, и опять у вас удержат десять крон!
Я сделал движение, чтобы достать письмо, во вдруг повернувшись к неожиданно подоспевшему «другу», пожал плечами и взглянул на жандарма. А шахтер продолжал игру. Это был молодой человек – ему можно было дать скорее двадцать, чем тридцать лет, – с большим кадыком, худой, веснушчатый. На голове фуражка лихо сдвинута назад.
– Сколько мне еще тащить твою лампу? Ведь ты сказал, что только закуришь, а сам уже выкурил две сигареты! – И он протянул мне лампу с большой медной ручкой. – Ну, пошли!
Жандарм с бесстрастным лицом махнул:
– Ладно, идите!
Мы присоединились к нашим спасителям и торопливо пошли по дороге. Когда мы отошли от жандармов шагов на пятьдесят, веснушчатый, смеясь, сказал:
– Ловко я их обошел, а?… Вы контрабандисты?
– Мм… Не совсем контрабандисты, но…
– Документы не в порядке, а? Я видел: вы были не очень-то рады встрече. А у этих подлецов такие глаза, что сразу высмотрят, кого не надо! Ну ладно. Главное, что вы отделались. А лампу давай сюда!
Он мало интересовался нами и больше говорил о себе. Он никак не мог нарадоваться, что так ловко обошел жандармов.
– В прошлый раз было так же, – рассказывал он. – Тогда с таможенниками. Они хотели обыскать человека с рюкзаком, а я ему крикнул: «Что ж ты, друг, не идешь! Сколько мне еще тебя ждать?» И ругал все на свете. Ну и как вы думаете, отпустили его таможенники? Даже рты разинули от удивления, что дали такого маху. А у этого типа десять килограммов кофе в зернах в рюкзаке, он тащил его в Дьёр из Вены. Без пошлины!
Он так потешался и хохотал, что закашлялся и ему пришлось остановиться. Он бил себя в грудь, чтобы кашель прошел. Потом затих и больше уже не хвастался. Лишь улыбка не сходила с его лица и по временам он гордо мне подмигивал.
Перед верхним поселком мы расстались, он и его спутник протянули нам руки:
– Куда вы идете?
Я сказал, что мы ищем братьев Эберлейн.
Он сразу стал серьезен, в глазах его исчезла плутоватая искорка. Он наклонился к моему уху и прошептал:
– Ну, приятель, тогда прекрасно, что полицейские не прощупали, кто ты есть! – И он снова улыбнулся и подмигнул: – Ваше счастье, что недалеко. Вон первый дом – это их, – показал он рукой.
В самом деле, это было счастье: я взглянул и увидел, что верхний поселок состоял всего-навсего из одного, самое большее из двух рядов домов, и там, метрах в ста от нас, стоял автокараван; вокруг него вся улица зеленела от солдатской одежды.
Крайние дома поселка выходили садами в лес. Как я заметил, крохотный домик, к которому мы направлялись, состоял из двух квартир. Поселок был такой же, как большинство шахтерских поселков, лишь построенный, быть может, позднее, чем нижний. Это можно было определить по крышам: они были менее закопчены.
Тот маленький домик был самый крайний, его окружал забор в рост человека. Здесь, вблизи леса, дерево ценится дешево. Крохотный садик, калитка открыта, в саду старик пропалывает грядки. Он огромного роста, на целую голову выше нас, хотя и сутулится: видно, что некогда был шахтером. Пунцовое лицо обрамляли седые волосы и седая борода. Из-под больших белых моржовых усов торчала остывшая трубка.
– Мы ищем братьев Эберлейн, – сказал я по-немецки.
Он подошел, осмотрел нас.
– Мы идем из Шопрона, – сказал я. – Меня послал товарищ Брандт. Он послал нас к Ханзи Винклеру, но того сегодня утром арестовали. – Старик поднял брови, но удивления не выказал. – Жена Ханзи Винклера направила нас сюда, – закончил я.
Он вытер большую костлявую руку о старые холщовые штаны и протянул нам. Потом повернулся к кухне:
– Входите, товарищи.
В наши дни люди часто жалуются на жизнь, на дорогие продукты. Люди подсчитывают, сколько можно было купить жира из однодневного заработка раньше и сколько сейчас.
Я старый революционер и, следовательно, принципиальный друг недовольства. Здоровое недовольство и запросы движут мир вперед. Таков уж человек – он всегда желает больше и лучше, чем имеет. Что касается этих сравнений – сколько жиру могли купить раньше и сколько сегодня, – с ними я тоже согласен.
Были места, где можно было хорошо заработать. Служащие и вообще-то жили лучше, чем теперь, хорошо жили и некоторые слои квалифицированных рабочих, если они работали.
Я помню, в 1913 году я восемь месяцев работал на МАВАГе, в паровозном цехе. Я получал пятьдесят филлеров в час. Работа была тяжелая, говорить нечего; токарная обработка сложных частей цилиндра – дело весьма деликатное: малейшая царапина – уже брак. Эту работу поручали не всякому токарю, и мне платили пятьдесят филлеров в час.
В неделю я зарабатывал двадцать пять-двадцать шесть крон, а иногда все тридцать. Что говорить, деньги большие.
Крона тогда была дорогая – четыре филлера стоила булочка, за сорок филлеров можно было отлично пообедать, и восемь – десять филлеров стоил стакан недорогого вина. Надо сказать, что то вино было гораздо лучше, чем теперешний абофорт или итока, или, как их называют, «пусть пьет тот, кто придумал». Я был холост, снимал комнату на улице Непсинхаз. Платил за нее двенадцать крон в месяц и еще восемь крон давал хозяйке за отопление, освещение и завтрак. Это была маленькая комнатка для прислуги, окно ее открывалось в световой колодец, но она была чистая и тихая, лучшей я и не мог желать.
За десять крон можно было купить пару ботинок, за пятнадцать – двадцать костюм на рынке Телеки, все почти не ношеное. «Снятые с господ», называли эти вещи. Я не знаю, с каких господ их снимали, во всяком случае, уж наверное не с графа, однако одежда была неплохой. Я в те времена был весьма разборчив, не любил одеваться кое-как. Я хотел нравиться девушкам. Что ж такого? И не только девушкам, но и самому себе.
Я всегда был свежевыбрит, костюм на мне хорошо пригнан, ботинки начищены до блеска – я собой дорожил… Был у меня еще костюм, сшитый по заказу, из хорошей шерсти. Он стоил дороже, мне помнится, я платил за метр что-то около десяти крон и пятнадцать крон заплатил портному за шитье и приклад. Заработка хватало…
На что же я тратил? В воскресенье после обеда я ходил с девушкой в парк; там мы пили пиво, ели соленые рожки; потом ужинали небольшой порцией гуляша и катались на лодке по озеру. Больше одной-двух крон мы никогда не тратили. Кино в то время уже было, но не так модно, как в наши дни, да и технически несовершенно: кадры то и дело мелькали, от них болела голова. Театр? Об этом даже не спрашивайте! На театр уже не хватало. Самые дешевые билеты стоили не меньше двух крон. Если идти вдвоем – четыре. Вот как! Цена билета была высока, и в театр не могли ходить такие люди, как я.
Словом, как видите, мы жили совсем неплохо. У нас, правда, было меньше запросов, чем у теперешнего рабочего, нашего коллеги по профессии, но все-таки мы жили. Однажды у меня даже сотня крон скопилась! Если бы я дождался выдвижения в МАВАГе, наверняка я стал бы зарабатывать в месяц сто двадцать – сто сорок крон. Обещали сделать меня мастером. Кроме того, я имел бы железнодорожный билет на проезд по всей монархии и другие льготы, полагающиеся государственному служащему, и, конечно, пенсию. А пенсия тоже не последнее дело. Стопроцентная пенсия после сорока лет службы!.. Но меня не выдвинули, а выгнали. Я ходил петь в «Стальной голос». Однажды перед репетицией я сидел в углу маленькой сцены у фисгармонии и читал «Непсаву». Ко мне подошел один служащий – некоторые из них тоже пели с нами – и привязался, зачем я читаю такую газету. Я ответил ему что-то, и мы сцепились. У меня вырвалось несколько грубых слов. Но ведь не мог же я позволить, чтобы со мной разговаривали, как с собакой, верно? Так из моего выдвижения ничего и не вышло – меня выгнали.